Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Созвездья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти.
[248]
Обычно чем качественнее стихотворный перевод, тем его невозможнее читать.
Качественный перевод это игра такая — при сходном размере и рифмовке как можно больше слов должно иметь по словарю то же самое значение. С написанием стихов это имеет крайне мало общего. Качественные переводы читают почти исключительно писатели качественных переводов.
Лермонтов переводил хуже некуда с точки зрения соответствия тексту и тп. — он писал свое. И Пастернак — свое. Бродский тоже свое пишет. И пишет хорошо.
А Вы с какой стороны этого диалога?
"Поэзия последствий не имеет…"?
"Поэзия последствий не имеет…"?
Стихи прочтя, никто не станет лучше?
Она в бесплодном поле семя сеет?
И никого и ничему не учит? —
Но отчего губам читать приятно?
Но отчего ушам приятно слушать?
Слова, звучащие интимно и приватно,
Необъяснимо западают в душу.
О чем они молчат и что пророчат?
И отчего в душе тревоги запах?
И глаз никак не оторвать от строчек,
И слез никак не удержать внезапных.
И, кажется, бег время ускоряет,
И свежестью необъяснимой веет…
Но кто-то, заблуждаясь, повторяет:
"Поэзия последствий не имеет…"
НА СМЕРТЬ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА [249]
Когда столько людей ждет траурных процессий,
когда горе стало общественным достоянием, и хрупкость
нашей совести и муки
предстала на суд всей эпохи,
о ком говорить нам? Ведь каждый день среди нас
умирают они, те, кто просто творили добро,
понимая, что этим так беден наш мир, но надеясь
жизнью своей хоть немного улучшить его.
Вот и доктор, даже в свои восемьдесят, не переставал
думать о нашей жизни, от чьего непокорного буйства
набирающее силу юное будущее
угрозой и лестью требует послушания.
Но даже в этом ему было отказано: последний взгляд его
запечатлел картину, схожую для всех нас:
что-то вроде столпившихся родственников,
озадаченных и ревнующих к нашей агонии.
Ведь до самого конца вокруг него
были те, кого он изучал — фауна ночи,
и тени, еще ждавшие, чтобы войти
в светлый круг его сознания,
отвернулись, полные разочарований, когда он
был оторван от высоких будней своих,
чтобы спуститься на землю в Лондоне —
незаменимый еврей, умерший в изгнании.
Только Ненависть торжествовала, надеясь хотя бы
сейчас увеличить его практику, и его
тусклая клиентура думала лечиться, убивая
и посыпая сад пеплом.
Они все еще дышат, но в мире, который он
изменил, оглядываясь на прошлое без ложных сожалений;
все, что он сделал, было воспоминание
старика и честность ребенка.
Он не был талантлив, нет; он просто велел
несчастному Настоящему повторять наизусть Прошлое,
как урок поэзии, до тех пор пока
оно не споткнулось в том месте, где
вечность назад было выдвинуто обвинение;
и вдруг пришло знание о том, кто осудил его,
о том, как богата была жизнь и как глупа;
и оно простило жизнь и наполнилось смирением,
способностью приблизиться к Будущему как друг,
без шелухи сожалений, без
застывшей маски высокой нравственности —
закомплексованности чрезмерно фамильярных движений.
Не удивительно, что древние культуры тщеславия
в его анализе противоречий предвидели
падение королей, крах
их изощренных иллюзий:
если бы ему удалось, общественная жизнь
стала б невозможна, монолит
государства — разрушен, и толпы
злопыхателей канули б в небытие.
Конечно, они взывали к Богу, но он спускался своим путем
в толпе потерянных людей, вроде Данта, вниз,
в вонючую яму, где калеки
влачили жалкое существование отверженных.
Он показал нам, что зло — не порок, требующий наказания,
но наше всеразрушающее неверие,
наше бесчестное состояние отрицания,
неуемное стремление к насилию.
И если какие-то оттенки властного тона
и отцовской строгости, которым он сам не доверял,
еще втирались в его высказывания и облик,
это была лишь защитная окраска
Читать дальше


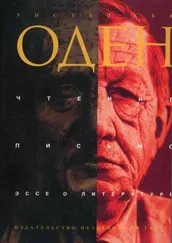


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




