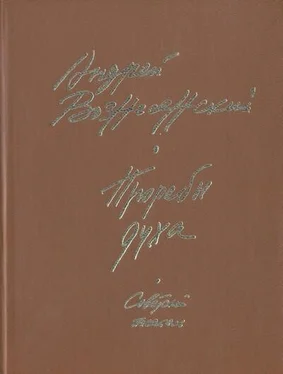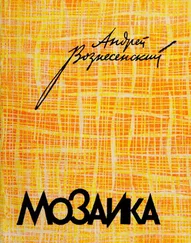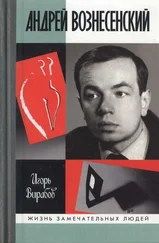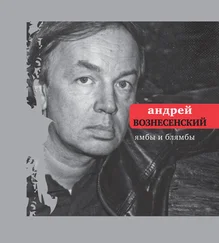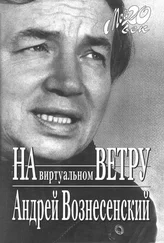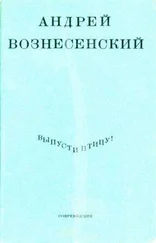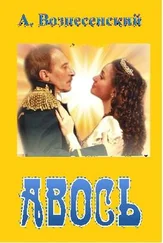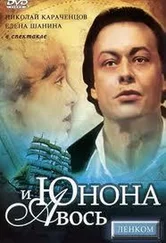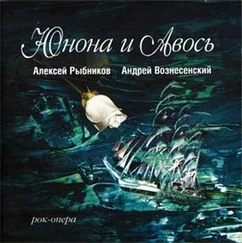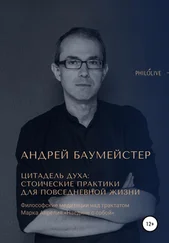Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»
Потом он обжирался дырами.
Склонив набок голову, зажмурясь, он со смачным всхлипом, причмокивая языком, высасывал дыры из черно-лиловых мидий. Стол вокруг него был завален их раздавленными скорлупами с микроскопическими бороздками, как покоробленные осколки грампластинок, на которых записано море. Он шинковал ломтями золотые пахучие дыры дынь, называемых у нас «колхозницами». Затем, опорожнив, выковыряв дыру из банки, он намазывал на ломоть белого хлеба тонким слоем дырки черной икры, так что ломоть становился похожим на маленькое решето. И наконец, подмигнув, высасывал ароматную дыру из темного горлышка пузатой бутылки, оплетенной прутьями, как корзина.
Когда он проходил, дыры шмыгали и забирались в норы. «Тссс! — слышался восхищенный шорох. — Идет пожиратель дыр».
Чревоугодник и чародей, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожняя мастерские других художников, он присоединил их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.
С особым смаком он показывал керамику. Томилась пепельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Это искус нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков. Красоте тесно в галерейных рамках, ей хочется стать жизнью людей. Она желает, чтобы ее касались губами, брали в теплые руки, наполняли дыханием и вечерним чаем. Чтобы она шубертовской или сегодняшней легкой мелодией оставалась на устах после радио. Чтобы воздух вокруг людей звучал красиво.
Голубка Пикассо свила свои гнезда в миллионах халуп.
Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.
Пикассо жаждал знать все.
Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.
— Они же не умеют слушать стихи в театре, — бурчал он.
Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.
Я видел, как в доме Арагона раскрытая книга, страница которой разрисована фломастером Пикассо, поставлена в паспарту и застеклена в раму, — в старинном, артистично-аристократическом доме, где вместо лифта вы садитесь в людовиковское кресло и вас подъемником взвивают на этаж.
Арагон тогда напоминал худущего тонкогубого заколдованного рыцаря. Одевался он аскетично. Он еще не раскрепостился и не носил белых кудрей до плеч, бархатных, расшитых золотом плащей и золотых туфель.
На моем поэтическом вечере, состоявшемся в театре «Вьё Коломбье», справа в зале сидел Бретон с ватагой, слева маячил белоснежный пик Арагона с товарищами. Два поэтища, когда-то братья по сюрреализму, теперь они смертельно враждовали. Зал был похож на омут с двумя плавающими ножами. Если справа хлопали, слева закручивался вакуум тишины. И наоборот. Это вообще был первый вечер русской поэзии в театре Парижа. Там ранее не было традиций поэтических вечеров. Поэтому так полярно разнообразна была аудитория. Восседали мэтры, бушевали студенты, шуршали шумные платья мемуаровые. Зал, как корзина для голосования, полная черных и белых шаров, был доверху полон белыми и черными дырами людских судеб. Снаружи ломились, напирали шары судеб, не попавшие в зал.
Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии, — еще! еще! — жаждал вобрать всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.
Век проносился, чудовищный и прекрасный, и он торопился придать ему человеческую форму, пока материал не застынет, не отойдет к другим векам и ничего уже исправить будет нельзя.
Да здравствует культура XX века, которую не сжечь, не расстрелять, которая существует! Да здравствует бешеное бессмертие ее мастеров! В потоке мирового сознания по ней, по этой культуре, — по кому же еще? — найдут и вспомнят о нас с вами, о нашем веке.
Читать дальше