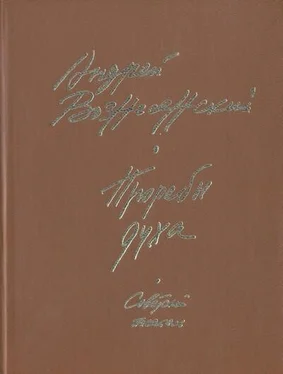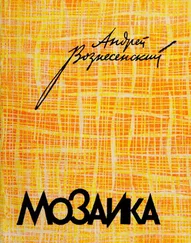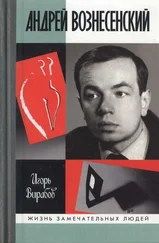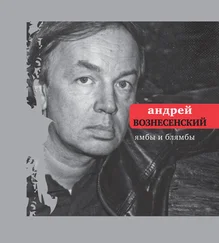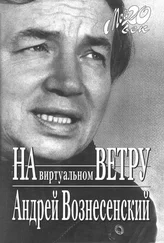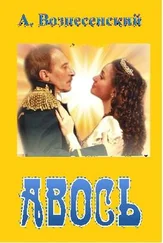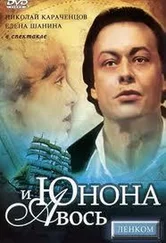Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.
На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.
Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он сминал крышку пополам боками вверх, так что получались крылья.
Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в бескрайний овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский…
Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.
Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой, в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.
В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.
Пикассо был полугол, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.
Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.
Его глаза торчали навыкат, вылезали изо лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.
— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.
Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со щучьей загадочной улыбкой.
И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «шевроле». Млели белые клепальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.
Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».
Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.
В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми — Шекспир и Эйзенштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.
Космонавт, заколачивая в лузу белые шары, рассказывал мне о невесомости:
— Там у стола нет ни верха, ни низа… Режу на полшара!.. Можно подплывать к столу с любой стороны… Хорош своячок. Сейчас мы его нежненько… Чтобы люди не сдвинулись в сознании, остаются условные верх и низ. Нам спроектировали комфортабельные кресла со спинками, мягко поддерживающими усталое тело. Но что поддерживать, если нет притяжения?.. Сейчас зайчиков влупим. И сами себе подставим… Мы, конечно, эти спинки отменили. Психика еще не освоилась с полной свободой от притяжения… Ах, замазан. Жаль.
Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать.
Их ведьмы летают вверх головами, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения.
Я отчетливо помню, как ты поутру улетала от меня. Ты удалялась попросту, по-нашему вниз головой. Как будто твое отражение. Обратив лицо вниз, к земле, не отводя от меня прощального взгляда.
Над тобою, будто ты подвешена к ним и они уносят тебя, плыли белые туфельки вверх полу-каблучками, срезанными наклонно, словно трубы удаляющегося теплохода.
Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил границу возможностей. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.
Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал: «А не видали ли вы, маэстро…»
Читать дальше