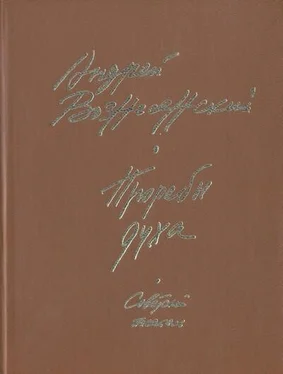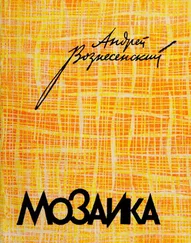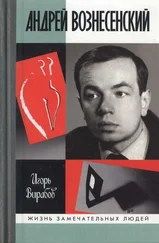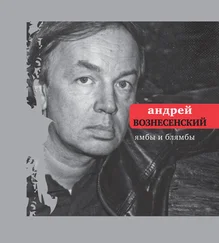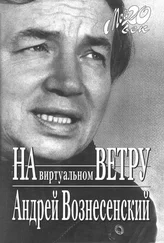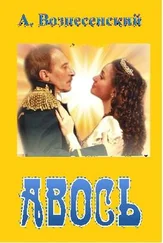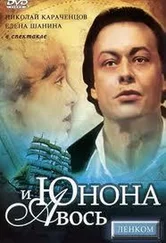Я хочу, чтобы нам с тобой
не солгали автомобили,
чтобы свет царил да любовь.
Это главное — чтоб любили.
Чтоб любовь не была мертва,
чтобы каждый дарил, ликуя,
в год по 1982
полноценных поцелуя.
Чтоб не гнула людей беда,
чтоб ловились сельдь и омуль.
19-82,
по идее, счастливый номер.
Заметает снег номера,
суеверье XX века.
Чтоб примета не подвела,
очень хочется верить в это.
Чтобы крохотный шар Земли
не сожгли глобальные взрывы.
Чтобы люди не подвели
эти с виду счастливые цифры.
Вторую ночь без всякой дрожи
под круглой красною луной
отвесно врезана дорожка
неумолимою рукой.
Ты говоришь: «То зодчий ада,
чтобы задумалась толпа,
нас тешит планом и фасадом
огненновидного столба».
Безоблачное небо.
Вороны черный зонт.
Сверкнул, как ручка, клюв.
Где спрятаться, свернув?
У храма, где погода голубая,
я деревце ореха посадил.
«Тимотес, — повторяю я. — Убани,
ты — самых синих фресок монастырь».
Я через год вернулся.
Древо это растет наклонно, ствол перекося.
Оно тянулось к фресковому свету,
чей синий пересилил небеса.
Три синих
(Послесловие к трехтомнику)
Прощайте, три тома,
Вы синими родились.
Прощайте, три дома —
Жизнь — Смерть — Высь.
Бог, видно, прошляпил,
на вас ледерин не учел —
одел вас в оставшийся штапель,
ошибочной сини клочок!
Прощайте, три синих!
Кого я на вас подпишу?
Непереносимо,
что кто-то идет к стеллажу.
Спустя сто лет точно
возьмет гениальный сопляк,
сверкнув голубою пощечиной,
надписанный мной экземпляр…
Ты знаешь лишь черное небо,
космические корабли.
Возьми его в синих брикетах,
как я его видел с Земли.
Потомок, возьми три тома
земных надежд и потерь, о
сыпавшемуся золотому
не верь. Только синему верь.
За это небо невнятное,
за высь
кормящиеся мной стервятники
за подписку дрались.
Пацан, в наших днях отрытых
найди свою мерку крыл,
как в лермонтовских палитрах
Врубель себя открыл.
Я жил в проклятых трясинах,
но небо я синим знал.
Прощайте, три синих!
Кто тройкой Россию назвал?
Зачем-то ведь Бог прошляпил,
одну звезду не учел —
одел ее в зрячий штапель,
такой одинокий зрачок!
Вы нас обогнали, сирых.
На телеэлементах гальюн.
Но поют ли вам Сирин,
Алконост, Гамаюн?
Когда ты их вынешь с полки,
то щелка небытия
откроется ровно настолько,
сколько жизнь занимала меня.
Куда вы, томы, девались?
Не дрейфь. Ты ищешь не тут.
Три синие адидаса
Москвой-рекою бегут.
Мужик, пробежимся с ними?
И что означает синь?
Я думаю — это Жизнь.
Прощайте, три синих!
Иду я росой предпокосной
словить электричку скорей.
Паслен и кукушкины слезы
обплачут меня до колен.
И долго еще эти травы,
темнея каймою внизу,
как будто по матери траур,
на брючинах серых ношу.
Вижу, как сон, — ты стоишь в полукруге
новых подруг девятого дня.
Сосредоточенно, но не в испуге,
будто в обиде, не видишь меня.
А по спине под луной купоросной
льется волос распущенных вал.
Мало я знал тебя простоволосой.
В детстве проснувшись, в пучке заставал.
Ты была праведница, праведница!
Кто ты теперь? Дай мне знать как-нибудь.
Будто с заминкой какой-то не справишься.
Я не решился тебя спугнуть.
Видно, стояла перед астралом.
Или русалка какая, шутя,
меня разыгрывала, отсталого!
Еще секунду я видел тебя.
—
Темной тревогой вздрогнуло тело —
мать пролетела.
Милое дело. Обычное дело.
Мать пролетела — жизнь пролетела.
—
Прощай, прощай! Кружись над краем плачущим,
где ветви елей, воздух уколов,
поднимут указательные пальчики
спадающих широких рукавов.
В каждой веточке бусинка боли
сверху листиком оснащена.
Золотые, как будто бемоли,
сыплет осень на нас семена.
Читать дальше