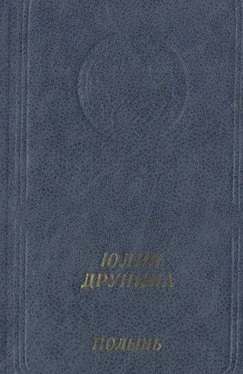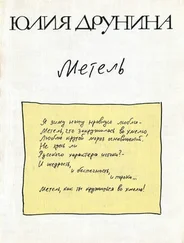И, жизнь начиная сначала,
Мы были уверены в том,
Что черная свастика стала
Всего лишь могильным крестом.
И тихо скандировал Буша
Его полумертвый земляк.
И жест, потрясающий душу,—
Ротфронтовский сжатый кулак…
Отпели победные горны,
Далек Нюрнбергский процесс.
И носятся слухи упорно,
Что будто бы здравствует Борман
И даже сам Гитлер воскрес!
Опять за решеткой Свобода,
И снова полмира в огне.
Но хмель сорок пятого года
По-прежнему бродит во мне.
«Я опять о своем, невеселом…»
Я опять о своем, невеселом,—
Едем с ярмарки, черт побери!..
Привыкают ходить с валидолом
Фронтовые подружки мои.
А ведь это же, честное слово,
Тяжелей, чем таскать автомат…
Мы не носим шинелей пудовых,
Мы не носим военных наград.
Но повсюду клубится за нами,
Поколеньям другим не видна —
Как мираж, как проклятье, как знамя —
Мировая вторая война…
Сколько шика в нарядных ножках,
И рассказывать не берусь!
Щеголяет Париж в сапожках,
Именуемых «а-ля рюс».
Попадаются с острым носом,
Есть с квадратным — на всякий вкус.
Но, признаться, смотрю я косо
На сапожки, что «а-ля рюс».
Я смотрю и грущу немножко
И, быть может, чуть-чуть сержусь:
Вижу я сапоги, не сапожки,
Просто русские, а не «рюс»,—
Те, кирзовые, трехпудовые,
Слышу грубых подметок стук,
Вижу блики пожаров багровые
Я в глазах фронтовых подруг.
Словно поступь моей России,
Были девочек тех шаги.
Не для шика тогда носили
Наши женщины сапоги!
Пусть блистают сапожки узки,
Я о моде судить не берусь.
Но сравню ли я с ними русские,
Просто русские, а не «рюс»?
Те, кирзовые, трехпудовые?..
Снова слышу их грубый стук,
До сих пор вижу блики багровые
Я в глазах уцелевших подруг.
Потому, оттого, наверное,
Слишком кажутся мне узки
Те модерные.
Те манерные,
Те неверные сапожки.
«В самый грустный и радостный праздник в году…»
В самый грустный и радостный праздник в году —
В День Победы — я к старому другу иду.
Дряхлый лифт на четвертый вползает с трудом.
Тишиною всегда привечал этот дом,
Но сегодня на всех четырех этажах
Здесь от яростной пляски паркеты дрожат.
Смех похож здесь на слезы, а слезы на смех.
Здесь сегодня не выпить с соседями — грех.
Открывает мне женщина — под пятьдесят.
Две медальки на праздничной кофте висят,
Те трагичные, горькие — «За оборону»…
Улыбаясь, косы поправляет корону.
Я смотрю на нее: до сих пор хороша!
Знать, стареть не дает молодая душа.
Те медальки — не слишком большие награды,
Не прикованы к ним восхищенные взгляды.
В делегациях нету ее за границей.
Лишь, как прежде, ее величают «сестрицей»
Те, которых она волокла на горбу,
Проклиная судьбу, сквозь пожар и пальбу.
— Сколько было спасенных тобою в бою?
— Кто считал их тогда на переднем краю?..
Молча пьем за друзей, не пришедших назад.
Две, натертые мелом, медали горят,
Две медали на память о черных годах
И об отданных с кровью родных городах…
«Над ними ветра и рыдают, и пляшут…»
Над ними ветра и рыдают, и пляшут,
Бормочут дожди в темноте.
Спят наши любимые, мальчики наши,
А нас обнимают не те…
Одни — помоложе, другие — постарше
Вот только ровесников нет.
Спят наши ровесники, воины наши —
Им все по семнадцати лет…
ОСТАНЬСЯ В ЮНОСТИ, СОЛДАТ!
(Диптих)
Себе дал команду «Вперед!»
Израненный мальчик в шинели.
Глаза, голубые, как лед,
Расширились и потемнели.
Себе дал команду «Вперед!»,
На танки пошел с автоматом…
Сейчас он, сейчас упадет,
Чтоб встать Неизвестным Солдатом.
Хоть гордиться могу я судьбою,
Хоть погиб в справедливом бою,
Все же, так виноват пред тобою
Я за женскую долю твою!
Как я верил, что встречу победу,
Как шагал я к тебе по войне!..
Горько жить нашим девушкам бедным
С одиночеством наедине…
В июне 1944-го была принята последняя радиограмма Смирной — радистки Кима: «Следуем программе…» Под именем Кима в немецком тылу работал советский разведчик Кузьма Гнедаш, под именем Смирной — Клара Давидюк, москвичка с Ново-Басманной улицы.
Читать дальше