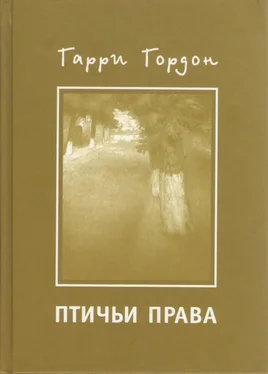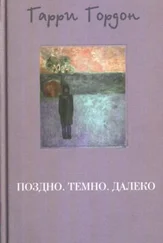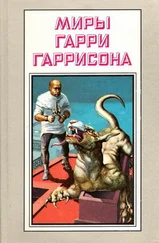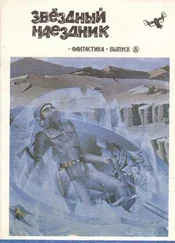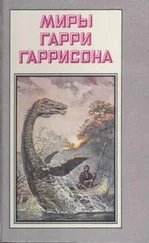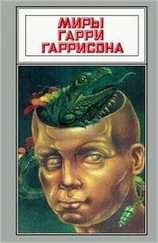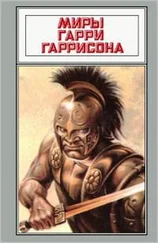«Колыбельная выстыла вслед за молитвой…»
Колыбельная выстыла вслед за молитвой,
Нежить нежная вымерзла в светлых домах,
Розовеют рябины на землях залитых,
Как интимные письма в последних томах.
Календарь пролистать, присоседиться к дате,
Бросить несколько бревнышек в темную пасть,
Пробудиться в ночи, поглодать благодати,
И, очей не смыкая, в ничтожество впасть.
Человечиной пахнет средь глины и праха,
Тень гиены сквозит меж берез и осин.
Апокалипсис — детство позора и страха,
Так — Шекспир или Чехов, Толстой и Расин.
Хоть изнанкой, к битью, это время предстало,
А Господние промыслы все ж хороши:
Можно радугой взвыть на изломе кристалла,
Можно горько блаженствовать в зуде парши.
Красной нитью трассируют братские узы,
Междометьями древними в новых ролях —
Старикам к ноябрю подарили рейтузы,
Мне связали носки к двадцать третьему февраля…
«Из прошлогодней земли выперли семядоли…»
Из прошлогодней земли выперли семядоли.
Крестиками погоста, Спасами на Крови.
Все еще впереди. Заморозки на поле,
И, как ни странно, на почве верности и любви.
Дрожь пробирает смотреть на голую эту отвагу,
Злость забирает видеть этот победный бросок,
Жалость берет, как вспомнишь, что многие завтра полягут,
Страшно подумать о том, как терний над ними высок.
Ахнувшая земля с жадностью напилась, и
Долго сама не разнюхает — дерево или злак…
Единогласно прут, не созревшие до разногласий,
Похожие друг на друга, как гены добра и зла.
Который год теребит грозная эта заявка,
Бурное это начало долготерпенье таит.
Все еще впереди. И кормовая травка
По горло в холодной росе солдатиком постоит.
И все-таки хорошо, что проступает вечер,
Морозные облака почти что на самом дне,
И в холоде этом большом, собачьем и человечьем,
Можно еще пока не думать о завтрашнем дне.
«А как подумаешь, что скоро помирать…»
А как подумаешь, что скоро помирать,
Не то, чтобы за правду, а взаправду,
Без всякой позы и без всякой пользы —
Чернила сохнут на конце пера.
И снова гром шарахается оземь,
Безумный кот махнул через ограду, —
Раз навсегда отлаженный порядок,
Условия игры, но не игра.
Какая, Боже, может быть игра.
Вначале слезы, а в конце нора,
Или нора вначале, после — слезы…
Чернила сохнут на конце пера.
Я не должен никому —
Ни таланту, ни уму,
Ни арийцу, ни еврею.
Я еще поднаторею
И скажу свое «му-му».
Проступает серый свет,
Подтекает под герани,
В этой самой ранней рани
Не прозренье, а навет.
Возрастает подозренье,
И ползет сквозь переплет
То ли холод озаренья,
То ли ненависти лед.
Беспризорны, оробелы,
Взявшись за руки, летят
Ангел черный, ангел белый,
Друг на друга не глядят.
Поморосил по мере сил,
В листве короткий гром исторгнув,
Окурок тихо погасил,
И почвой принят. Без восторга.
Плескал беспечно, как вином,
Тревожным духом заоконным…
Но вовремя, по всем законам
Зазеленело за окном.
Одно лишь принимал всерьез —
Судьбу и ремесло поэта.
Рассказывали, что на это
Смотреть нельзя было без слез.
Под кухонною полкой
Свой карандаш грызу,
Ругаю втихомолку
То вьюгу, то грозу.
Вокруг визжат и мчатся
Лихие домочадцы,
И жизнь моя легка,
Пока живу, пока
Румяный, большеротый,
Щербатый лик свободы
В заснеженном окне
Подмигивает мне.
Поминая черта всуе,
Сереньким карандашом
Человек метель рисует,
Белый снег и черный дом.
Ревность, чаянье, отвага
В простодушной серой мгле,
Рвется писчая бумага,
Пища стынет на столе.
И в последнем взрыве страсти,
Потеряв находкам счет,
Выхватит упругий ластик
И фонарик нанесет.
«А вот уже и в нашей яме…»
А вот уже и в нашей яме
Пахнуло злом нездешних нег:
Зашелушилось воробьями,
И капнуло грачом на снег.
Читать дальше