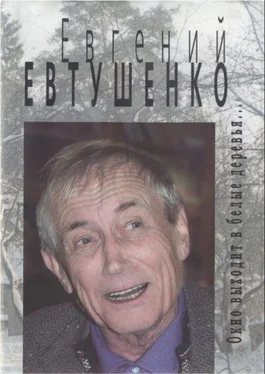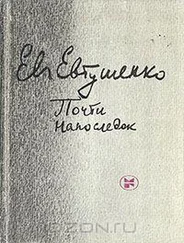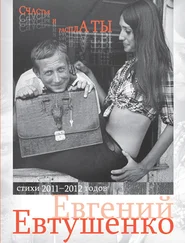Май 1957
«О, как мне жаль вас — утомленные…»
О, как мне жаль вас — утомленные,
во времени неощутимые
герои неосуществленные
и просто неосуществимые!
Иные, правда, жизнью будничной
живут, не думая о подвиге,
но в них таится подвиг будущий,
как взрыв таится в тихом порохе.
О, сколько тихо настрадавшихся,
чтоб все — для взрыва напроломного!
Но сколько взрывов нераздавшихся
и пороха непримененного!
Я не хочу быть ждущим порохом —
боюсь тоски и отсырения.
Вся жизнь моя да будет подвигом,
рассредоточенным во времени!
23-24 июля 1957
«Пахла станция Зима молоком и кедрами…»
Пахла станция Зима
молоком и кедрами.
Эшелонам
пастухи
с лугов махали кепками.
Шли вагоны к фронту
зачехленно,
громыхающе…
Сколько было грозных,
молчаливых верениц!
Я был в испанке синенькой,
кисточкой махающей.
С пленкою коричневой
носил я варенец.
Совал я в чью-то руку
с бледно-зеленым якорем
у горсада с клумбы
сорванный бутон
или же протягивал,
полный синей ягоды,
из консервных банок
спаянный бидон.
Солдаты
желтым сахаром
меня баловали.
Парень с зубом золотым
играл на балалайке.
Пел:
«Прощай, Сибирюшка, —
сладкий чернозем!»
Говорил:
«Садись, пацан,
к фронту подвезем!»
На фуражках звездочки,
милые,
алые…
Уходила армия,
уходила армия!
Мама подбегала,
уводила за фикусы.
Мама говорила:
«Что это за фокусы!
Куда ты собираешься?
Что ты все волнуешься?»
И предупреждала:
«Еще навоюешься!..»
За рекой Окою
ухали филины.
Про войну гражданскую
мы смотрели фильмы.
О, как я фильмы обожал —
про Щорса,
про Максима,
и был марксистом, видимо,
хотя не знал марксизма.
Я писал роман тогда,
и роман порядочный,
а на станции Зима
голод был тетрадочный.
И на уроках в дело шли,
когда бывал диктант,
«Врачебная косметика»,
Мордовцев
и Декарт.
А я был мал, но был удал,
и в этом взявши первенство,
я между строчек исписал
двухтомник Маркса — Энгельса.
Ночью,
светом обданные,
ставни дребезжали —
это эшелоны
мимо проезжали.
И писал я нечто,
еще не оцененное,
длинное,
военное,
революционное…
Июль 1957
«Лифтерше Маше под сорок…»
Лифтерше Маше под сорок.
Грызет она грустно подсолнух,
и столько в ней детской забитости
и женской кричащей забытости!
Она подружилась с Тонечкой,
белесой девочкой тощенькой,
отцом-забулдыгой замученной,
до бледности в школе заученной.
Заметил я —
робко, по-детски
поют они вместе в подъезде.
Вот слышу —
запела Тонечка.
Поет она тоненько-тоненько.
Протяжно и чисто выводит…
Ах, как у ней это выходит!
И ей подпевает Маша,
обняв ее,
будто бы мама.
Страдая поют и блаженствуя,
две грусти —
ребячья и женская.
Ах, пойте же,
пойте подольше,
еще погрустнее,
потоньше.
Пойте,
пока не устанете…
Вы никогда не узнаете,
что я,
благодарный случаю,
пение ваше слушаю,
рукою щеку подпираю
и молча вам подпеваю.
27 августа 1957
«Как я мучаюсь — о, Боже!..»
Как я мучаюсь — о, Боже! —
не желаю и врагу.
Не могу уже я больше —
меньше тоже не могу.
Мучат бедность и безбедность,
мучат слезы, мучит смех,
и мучительна безвестность,
и мучителен успех.
Но имеет ли значенье
мое личное мученье?
Сам такой же — не иной,
как великое мученье,
мир лежит передо мной.
Как он мучится, огромный,
мукой светлой, мукой темной,
хочет жизни небездомной,
хочет счастья, хочет есть!..
Есть в мученье этом слабость,
есть в мученье этом сладость,
и какая-то в нем святость
удивительная есть…
30 августа 1957
«О, нашей молодости споры…»
О, нашей молодости споры,
о, эти взбалмошные сборы,
о, эти наши вечера!
О, наше комнатное пекло,
на чайных блюдцах горки пепла,
и сидра пузырьки, и пена,
и баклажанная икра!
Здесь разговоров нет окольных.
Здесь исполнитель арий сольных
и скульптор в кедах баскетбольных
кричат, махая колбасой.
Высокомерно и судебно
здесь разглагольствует студентка
с тяжелокованой косой.
Здесь песни под рояль поются,
и пол трещит, и блюдца бьются,
здесь безнаказанно смеются
над платьем голых королей.
Здесь столько мнений, столько прений
и о путях России прежней,
и о сегодняшней о ней.
Читать дальше