Зазимую я, поздно иль рано,
На приморском твоем берегу;
Ты увидишь в закате багряном
Ожерелье следов на снегу.
Будут волны шуршать, как страницы,
А весной, в потеплевших ночах,
Пролетят одинокие птицы,
О знакомом о чем-то крича.
И, встревоженным сердцем почуяв
Зов далеких неведомых мест,
На березе кольцом начерчу я
В знак прощанья условленный крест.
И уеду. А ветер раскинет
Вереницы твоих телеграмм —
Ты вернешься к печальной полыни
И к туманным приморским утрам.
Вдоль по берегу поезд промчится,
Прогудит телеграфная сеть,
Да прибой отсчитает страницу,
Прошуршав по песчаной косе…
Всхожу, бледнея, на ступени,
Конец которых — в облаках,
Под шепот, трепеты и пенье
Многокрылатого стиха.
И, запахнувшись вместе с музой
В широкий эллинский хитон,
Иду вперед, ресницы сузив,
Мельканьем светов ослеплен…
Когда же перейду преграду,
Готов молиться, петь готов —
Из поэтического сада
С улыбкой выйдет Гумилев,
И, поманив меня рукою,
Он скажет тихое: «Войди…»
Кругом — благоуханье хвои
И хор бессмертных впереди.
«Волнистой линией тянулся горизонт…»
Волнистой линией тянулся горизонт,
Холмы сияли тусклой позолотой,
Над зеркалом черневшего болота
Раскрыло небо лиловатый зонт.
А в городе, по тротуарным латам,
Мелькают кляч избитые бока,
И рикши потные, в подоткнутых халатах
Глядят в заплаканные облака.
О, да, я была гетерой!
О, да, я была блудницей!
Жила я водной из улиц
На западной стороне…
Когда я кордакс плясала —
Мужчины менялись в лицах,
Кусали женщины губы
И перстни бросали мне…
Про мой синеватый пеплум,
Следы от моих сандалий
И голос, что был то нежен
Или по-мужскому груб, —
Теперь вы слышите в песнях,
Которых много слагали
За мой поцелуй поэты —
За детскую жадность губ.
Раскопки Ольвии
«…В мерных джунглях, мерная девушка».
Райдер Хаггард
Тут плясала Джинна, блестело лицо,
Она — красивее всех…
У нее в губе золотое кольцо
И бусина, как орех.
Нагуа живого львенка принес —
Недовольна осталась она:
Захотела серьгу разноцветную в нос
И много клыков слона.
Потом пришел белый, бил Нагуа в спину,
А Джинне дал много бус…
Она пошла к сиди, в его долину,
Сказав: «Нагуа — трус».
Холодный ветер все продул насквозь,
Туман завесою спустился над бульваром,
Пора бы, кажется, уж расходиться врозь
Так странно медлящим в задумчивости парам…
Как холодно!.. Как воздух мокр и стар!..
Полоски розовые на востоке встали,
Чуть слышно сквозь осенний мерзлый пар
Печальной песней блики заиграли…
Мерцающее марево закатов,
Чернеющий зазубринами лес
И холст оранжевых небес —
Все в памяти ненарушимо свято.
Но почему мы все тоской объяты?
Здесь облака такие же, как там,
Легки, округлы и крылаты,
Подобно нашим русским облакам…
Нет! наши облака — сияющие латы,
А здесь они, как жертва под ножом,
И мы — в тоске, за дальним рубежом,
О том, что в памяти ненарушимо свято…
«Китайцы тихо пели песню…»
Китайцы тихо пели песню
Печальную — из одних гласных.
И в полосах вода лиловых
У берега, а дальше — в красных…
О, почему, глазами щуря,
Мы сотнями проходим мимо,
Не зная ни того, что буря —
Сиянье крыльев серафима,
Что свет на небе не погашен
И в облаках, плывущих сонно,
Отражены громады башен,
Рекой когда-то поглощенных?
По вечерам, средь запаха растений,
Обрюзгший бог, скрестивши ноги, спит.
Он очень стар. Отяжелел от лени,
Раскормленный, как годовалый кит.
Пока он спит, медлительные бонзы
Сжигают свечи, ударяют в гонг.
Но замер он, весь вылитый из бронзы,
Под медленно струящийся дифтонг.
Он слушает несущий звуки вечер
Отвисшим ухом с золотым кольцом…
Рокочет барабан. Треща, пылают свечи
Пред сонно улыбнувшимся лицом.
1931
Читать дальше








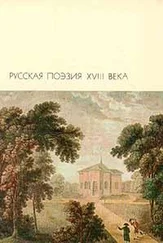

![Дун Си - Слова, упавшие в воду. Современная поэзия Гуанси [антология]](/books/423808/dun-si-slova-upavshie-v-vodu-sovremennaya-poeziya-g-thumb.webp)

