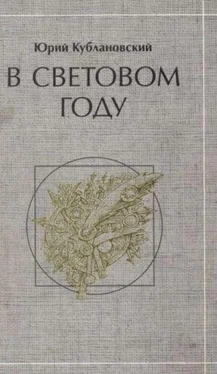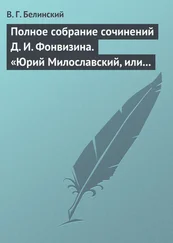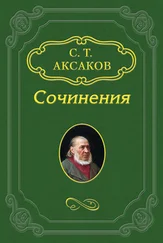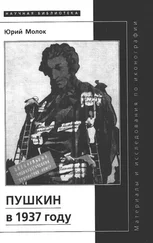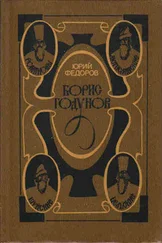будет шапкой махать на столпы соляные
и таким же столпом становясь.
Где блеклый атлас
в нетронутый час,
разглаженный аж до Пергама Антипы,
и спят крокодилы дряхлеющих глыб,
беззлобно оскалив на чаек и рыб
резцы и полипы,
толченый алмаз
вселенной погас
и всплески душа принимает за всхлипы,
ты тоже родная, ты тоже одна
ночная крупица, молекула утра,
а я — как бесчисленный камень со дна —
поклонник и раб твоего перламутра.
ФЕОДОРА [2] При подходе мятежников в 532 году Юстиниан хотел было бежать через потайную дверь, но Феодора указала ему на их пурпурные мантии: «Разве есть саваны лучше этих?»
1
Сумрачных скал замес
с доступом лишь глазам
вырос наперерез
падающим волнам.
Мечется мышь летучая,
падая и паря,
с каждым броском живучее
около фонаря.
Веки с сурьмой, отмытою
на ночь с трудом, смежу,
словно сама убитая
прежде тебя лежу.
Отроду двуединая
цельная ипостась:
агнец и царь, чья львиная
грива с руном сплелась.
Редкий моллюск, чьих раковин
не расщепить ножом,
в царстве с еще до заговин
вспыхнувшим мятежом.
…Скоро, опившись смолоду
уксусу с жемчугом,
что показался с голоду
с ледника молоком,
в спешке зальют нас жертвенной
нашей же кровью, но
в опочивальне мертвенной
слышится мне одно —
грозный твой зов: «Нужна мне
и посейчас люба».
Ящерица на камне
тоже твоя раба
— для твоего зверинца.
О, отцеди, родной,
с царственного мизинца
капельку голубой
мне на причастье; впору,
если не поздно, знать,
из поставца просфору
и копьецо достать.
Отсвет лампады тлеющей,
вкрапленной в темноту,
высветив ус русеющий
возле щеки в поту,
меркнет от взгляда ль встречного?
Чернь ли взяла дворец?
…Или зовут бубенчики
щиплющих терн овец
нас отпевать на клиросе?
Пойманных голубей
наши тела при выносе
будут не тяжелей.
2
Пасмурный ослик на
лбу с золотым пятном.
Серая зелена
роща олив кругом.
Грозен, незаменим,
в одеяньях, продубленных солью,
выводил серафим
наш баркас, не сверяясь с буссолью,
между рифов — из тьмы,
обминуя рыбацкие вешки,
словно не были мы
кровью жертвенной залиты в спешке.
…Но от утра того
тамариска среди голубого,
когда ты своего
за моим погонял ретивого
осыпною тропой
и кремнистым потом бездорожьем —
наши души с тобой
оставались в чистилище Божьем.
У плакучих олив,
что приземисты и величавы,
грешный, нетерпелив,
раскатал ты кошму для забавы.
Быть рабыней твоей
я училась тогда у хозяек:
замирающих змей,
рыб летучих, дрейфующих чаек.
…Похотливо слепа
по рецептам крамол с мятежами
подступила толпа
к нашим праздничным горлам с ножами.
Перед меньшим из зол:
правой гибелью — бегство нелепо.
Ибо что же престол,
как не крест, опрокинутый в небо.
…И в сеченьи луча
столь же видимо, сколь и незримо,
ветер валко качал
у причала баркас серафима.
3
Каменный желоб, и
льдистым жгутом вода
в руки бежит мои,
темные от труда.
Слепнями облепленный мул
на пепельном зное уснул
вблизи византийских останков,
как будто из них и воскрес,
минуя оливовый лес,
дуплисто ощеренный с флангов.
И веками полуприкрыт
фарфор умудренных орбит.
Кремнисто-зеленые горы
еще выцветают окрест
и слышат прибой и протест
бродившей по ним Феодоры:
«Когда осаждает толпа
покой, за которым тропа,
ведущая в путь без поклажи,
стопою её не ищи,
пурпурные наши плащи —
достойные саваны наши!
И сам Пантократор Христос,
копной окаймленный волос,
с мужицкою кожею темной
у круто замешанных глаз
закланных и царственных нас
ждет в купольной веси огромной».
…Похлопает издалека
пришедшего мула рука
гонца-невидимки.
И зноя края
как рыб чешуя
в минуту поимки.
Бесстрашно вглядись
в бездонную высь
и недра Фавора,
во тьму и огни
— она и они
твои, Феодора.
«Добровольческий спелый…»
Читать дальше