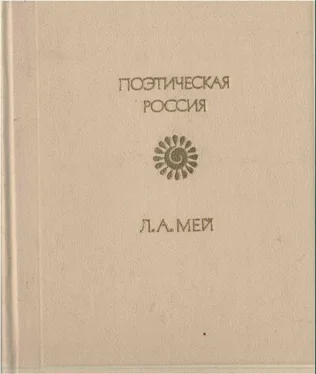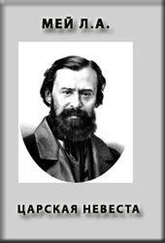2
Как у князя Семеона двор — море,
У Мстиславича-света широкое:
Что волной, его травкой подернуло.
Ворота у него и скрипучие,
Да гостям-то уж больно отворчивы;
В огороде кусты и колючие,
Да на ягоду больно оборчивы.
Красен двор — краше терем узорочьем:
Где венец, там отёска дубовая,
Где покрышка — побивка свинцовая,
Где угрева, там печь изразцовая;
Сени новые понавесились,
Не шатаются, не решетятся…
Только краше двора, краше терема
Сам-от он, Семеон-князь Мстиславович:
Знать, рожёно дитя в пору-вовремя,
Под воскресный заутренний благовест;
Знать, клала его матушка
В колыбель багрецовую,
Раскачала родимая
От востока до запада.
Не обнес он и нищего братиной;
Сорокатого припер рогатиной;
У него жеребец куплен дорого —
Головою улусного батыря;
У него на цепи пес откормленный —
Взят щенком из-под суки притравленной.
Красен князь удалой, да не только собой —
И хозяйкой своей молодой:
Не жила, не была и красой не цвела
Ни царица одна, ни царевна,
Не светила Руси, что звезда с небеси,
Как княгиня Ульяна Андревна!
Самородна коса, не наемная,
Светло-русою сызмала кована,
Воронена тогда, как подкосье завилося,
Как сердечко в лебяжия груди толкнулося,
Как зажглися глаза синим яхонтом,
Молоком налились руки белые.
Хорошо в терему князя Вяземского:
Всё у места, прилажено, прибрано,
Как к великому светлому празднику;
Вымыт пол, ометен свежим веником;
Слюда в окнах играет на солнышке;
Что ни лавка, то шитый полавочник;
Поставец серебром так и ломится;
А в углу милосердие божие:
Кипарисный киот резан травами;
Колыхаясь, лампада подвесная
Огоньком по окладам посвечивает;
А иконы — письма цареградского,
Все бурмицкими зернами низаны;
Самоцветные камни на венчиках.
Стол дубовый накрыт браной скатертью;
За столом оба князя беседуют;
На столе три стопы золоченые:
В первой брага похмельная, мартовская,
Во второй — липец-мед, н а век ставленный,
В третьей — фряжское, прямо из з а -моря;
По стопам уж и чарки подобраны.
А княгиня Ульяна Андреевна
Под окошком стоит и красуется,
Зелен ы м своим садом любуется:
Развернулись в нем лапы кленовые,
Зацвели в нем цветочки махровые,
Зацвели и ало и лазорево,
Закадили росным, вешним ладаном,
На утеху певуньям охотливым,
Мелким пташкам лесным, перелетливым.
Говорит Юрий-князь:
«Не управиться:
Больно валит Литва окаянная,
Всё к ночи, неторенной дорогою…
Как ни ставь ты настороже з а годя
Уж на что тебе парня проворного —
Так и вырежет, так вот и вырежет,
Что косою снесет… как бы справиться?
Аль Москве отписать?.. Ох!.. Не хочется
Всяким делом Василию кланяться».
Говорит ему Вяземский:
«Что же, князь!
У меня бы и кони стоялые,
И дружинники в поле бывалые,—
Прикажи, осударь, мы уж выручим,
Будем бить, осударь, напроп а лую,
А Литву не отучим, так выучим.
Только где нам поволишь плечо размять?
Под Смоленском ли, аль под Опочкою?
Аль ходить, так ходить, и коней напоить —
Не Днепром, не Двиной, а Немигою?»
— «Ладно б, — молвил князь Юрий,
задумавшись, —
Ладно б! Что ж мы и вправду хоронимся?
Or Литвы, что от беса, сторонимся?»
— «Так прикажешь седлать?»
— «С богом, князь Семеон!
Выпьем чарку на путь на дороженьку.
А себя береги: ты покладливый,
Да уж больно под бердыш угадливый».
Оба выпили… Тут-то княгиня Ульяна
Андреевна
И подходит… кровинки в лице ее не было.
Молвит: «Князь Семеон, осударь
мой Мстиславович!
Хоть брани, хоть казни — правду выскажу:
Боронись от обидчика-недруга,
Боронися от гостя незваного,
Коль идет, не спросясь, не сославшися,
Встреть беду, коли бог нашлет,
Только сам, осударь, за бедой не ходи,
Головы под беду, под топор не клади.
А меня ты прости, мой желанный…
Вот стучит мне, стучит словно молот в виски,
Кровь к нутру прилила, и на сердце тиски…
Ты прости меня, дуру, для праздника,
Хоть убей, да не езди ты в поле наездное…»
Покачал головою князь Вяземский
И княгине шепнул что-то на ухо:
Посмотрела на образ, шатнулася,
Слезы градом, что жемчуг, посыпались,
И, потупившись, вышла из терема.
Лето красное, росы студёные;
Изумрудом все листья цвечёные;
По кустам, по ветвям потянулися
Паутинки серебряной проволокой;
Зажелтели вдоль тына садового
Ноготки, янтарем осмоленные;
Покраснела давно и смородина;
И крыжовник обжег себе усики;
И наливом сквозным светит яблоко.
А княгиня Ульяна Андреевна
И не смотрит на лето на красное:
Всё по князе своем убивается,
Всё, голубка, его дожидается.
Видит мамушка Мавра Терентьевна,
Что уж больно княгиня кручинится, —
Стала раз уговаривать… Сметлива
И, что сваха, уломлива старая;
Слово к слову она нижет бисером,
А взгляни ей в глаза — смотрит ведьмою.
Дверью скрип о светлицу княгинину,
Поклонилася в ноги, заплакала…
«Что с тобою, Терентьевна?»
— «Матушка,
Свет-княгиня, нет мочушки:
На тебя всё гляжу — надрываюся…
И растила тебя я и нянчила,
Так уж правды не скажешь, а скажется:
Аль тебе, моя лебедь хвалынская,
Молодые годки-то прискучили?
Чт о изводишь свой век, словно каженница?
Из чего убиваешься попусту?
Ну, уехал-уехал — воротится!
Ты покаме-то, матушка, смилуйся,
Не слези своих глазок лазоревых,
Не гони ты зари с неба ясного,
Не смывай и румянца-то, плачучи.
Не себе порадей, людям добрыим,
Вон соседи уж что поговаривают:
„Бог суди-де Ульяну Андреевну,
Что собой нас она не порадует:
Не видать-де ее ни на улице,
Ни на праздники в храме господнием,
А куды мы по ней встосковалися“.
Не гневись, мое красное солнышко,
А еще пошепчу тебе на ухо…
Онамедни князь Юрий засылывал:
„Не зайдет ли, мол, Мавра Терентьевна?“
Согрешила — зашла, удосужившись…
И глядит не глядит, закручинился,
Наклонил ко сырой земле голову
Да как охнет, мой сокол, всей душенькой:
„Ох, Терентьевна-матушка, выручи!
Наказал Новый Торг Спас наш милостивый,
А меня пуще всех, многогрешного,
Наказал не бедою наносною,
А живою бедою ходячею —
Во хрущатой камке мелкотравчатой,
В жемчугах, в соболях, в алом бархате.
Шла по городу красною зорькою,
Да пришла ко дворцу черной тучею,
А в ворота ударила бурею.
Не любя, не ласкавши, состарила,
Без ума, что младенца, поставила“.
Вот ведь что говорил, а я слушаю,
Да сама про себя-то и думаю:
Про кого это он мне так нашептывает?
Ну, отслушала всё, поклонилася,
Да и прочь пошла…»
— «Полно ты, мамушка,
Говорит ей Ульяна Андреевна.—
Мне про князя и слушать тошнехонько:
Невзлюбила его крепко-накрепко, —
Словно ворог мне стал, не глядела бы…»
Рассмеялася Мавра Терентьевна:
«Ну ты, сердце мое колыхливое,
Как расходишься ты, расколышешься —
Не унять ни крестом, ни молитвою,
Ни досужим смешком-прибауткою».
Читать дальше