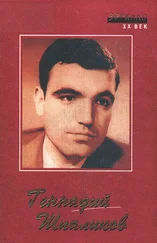Испытателем жизни — вне строп, вне подвесок, вне лонж —
Меня бросили жить, и живу я, края озирая,
Из какого же края, залетный восторженный «бомж»,
Залетел я? И где же — ну где же! — края того края?
Камень краеуголен… Но взгляд мой, по шару скользя —
Как стекло по стеклу — возвращается к точке начала…
Ну, нельзя было в этом дворе появляться, нельзя!
Не на свет и на звук, а на зык и на гук ты качала…
— Отчего, скажи, Фалалей,
Ты не любишь божьих людей?
— Оттого, скажу, что смотрю да гляжу,
А еще чего не скажу…
А скажу тебе — помнишь? — ночь была святая,
Приходила к Богу девка разбитная —
Щечки белы, да губки алы — шлюшка из Магдалы.
Верно, что-то он ей там сказал,
Верно, что-то он ей там поведал…
Ничего у нее не взял, ничего-то ей не дал.
И не водятся с тех пор на свете
Божьи люди — Божьи дети.
А растут с тех пор, как грибы,
Божьи люди — божьи рабы…
И гудит во храме торг,
И горит издевочка —
То ль заздравная свеча,
То ли трехрублевочка.
Нагрешится божий раб —
В дом Господень, как домой —
Сунет Господу трояк:
Выручай, хозяин мой!
Отщипнет от Бога плоть,
Выпьет зелье рвотное —
Отвечай теперь, Господь,
Я твое животное!
…Только Машенька, Мария, Магдалина
Перстенечками сверкает в уголочке:
За юдоль мою, дай, Господи, мне дочку…
А тебе дай, Господи, Сына…
Был дом, а в доме был день
И день завершила ночь,
И дом окутала лень —
Затейливой музы дочь.
И дом гудел до утра,
И дым до рассвета
Тянулся, словно дым костра…
Как звать тебя, сестра? —
И еле заметно
Ты скажешь: звать меня — сестра…
…И снова был день,
И день завершился днем,
И ночь оставила тень,
И было легко вдвоем.
Я обнял нежную грудь,
И в облаке света
Спросил — так, словно бы вчера:
— Как звать тебя, сестра?
И еле заметно ты скажешь:
— Звать меня сестра…
…Запомни этот дом —
Тебя чужую,
З апомни дом, где я чужой
Тебя целую.
Запомни этот свет чужой,
Чужое небо.
Здесь ничего родного нет,
И Бог здесь не был.
Мир, где родными будут до утра
Твои объятья,
Где я люблю тебя, сестра,
Как сорок братьев…
…и снова был день
И день завершился днем,
И дом окутала тень
Своим невесомым сном…
Оставь же лучше в нем —
На грани рассвета —
Чуть слышный свет приоткрытых век!
И еле заметно оставь мой дом,
Елизавета,
Уйди на час и уйди на век.
И была у Дон-Жуана шпага
И была у Дон-Жуана донна Анна
М. Цветаева
И была у мальчика дудка на шее, а в кармане — ложка, на цепочке — кружка, и была у мальчика подружка на шее — Анька — хипушка. Мальчик жил-поживал, ничего не значил и подружку целовал, а когда уставал — Аньку с шеи снимал и на дудке фигачил… Дудка ныла, и Анька пела, то-то радости двум притырочкам! В общем, тоже полезное дело — на дудке фигачить по дырочкам. А когда зима подступала под горло, и когда снега подступали под шею, обнимались крепко-крепко они до весны. И лежали тесно они, как в траншее, а вокруг было сплошное горе, а вокруг было полно войны… Война сочилась сквозь щели пластмассового репродуктора, война, сияя стронцием, сползала с телеэкрана. Он звук войны убирал, но рот онемевшего диктора — обезъязычевший рот его — пугал, как свежая рана.
И когда однажды ночью мальчик потянулся к Анне, и уже встретились губы и задрожали тонко, там — на телеэкране — в Ираке или Иране, где-то на белом свете убили его ребенка. И на телеэкране собралась всемирная ассамблея, но не было звука, и молча топтались они у стола. И диктор стучал в экран, от немоты свирепея, и все не мог достучаться с той стороны стекла. А мальчик проснулся утром, проснулся рано-рано, взял на цепочке кружку и побежал к воде, он ткнулся губами в кружку, и было ему странно, когда вода ключевая сбежала по бороде. А мальчик достал из кармана верную свою ложку и влез в цветок своей ложкой — всяким там пчелам назло, — чтобы немножко позавтракать (немножко и понарошку), и было ему странно, когда по усам текло.
Тогда нацепил он на шею непричесанную свою Анну.
И было ему странно Анну почувствовать вновь…
Тогда нацепил он на шею офигенную свою дудку,
Но музыку продолжать было странно, как продолжать любовь. Он ткнулся губами в дудку, и рот раскрылся, как рана,
Раскрылся, как свежая рана. И хлынула флейтой кровь.
Читать дальше