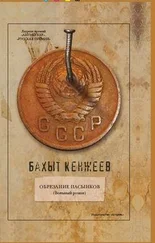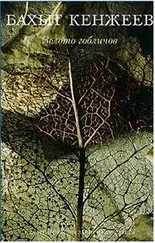«Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски…»
Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски
через тесные помещения и невысокие потолки,
виноградники, палисадники, окна узкие, пузыри
бычьи в рамах, крестьянские ватники, апельсиновый луч зари —
ах, пускай ничего не сбудется – хорошо голосить налегке,
так лоза, искривляясь, трудится на иссушенном известняке,
наливаясь хмельною яростью (что, товарищ, старьё – берём?)
перед тем, как её за старостью тёмнодышащим топором
срубят, выкорчуют к чёртовой матери и посадят другую лозу
Почему я был невнимателен? Почему в ночную грозу
пил не римское, а советское и дымил дурным табаком?
Посиди со мной. Время – детское. Я ни с кем ещё не знаком,
только рифмы бедные, как мышата, жмутся, попискивают,
словно им
нет ни адреса, ни адресата. Посиди со мной, поговорим
посумерничаем, подружка кроткая, если полночь – твоя взяла —
не плеснёт виноградной водкою в опустевшие зеркала.
«И я хотел бы жить в твоём раю – в полуподводном, облачном краю…»
И я хотел бы жить в твоём раю – в полуподводном,
облачном краю,
военнопленном, лайковом, толковом, где в стенах трещины,
освоив речь с трудом,
вдруг образуют иероглиф «дом» – ночной зверёк
под крышей тростниковой.
Там поутру из пыльного окна волна подслеповатая видна,
лимон и лавр, о молодых обидах забыв, стареют,
жмутся к пятачку
дворовому. И ветер начеку. И даже смерть понятна,
словно выдох.
И я хотел бы молча на речном трамвайчике, рубиновым вином
закапав свитер, видеть за кормою земную твердь.
Сказать: конец пути,
чтобы на карте мира обвести один кружок —
в провинции у моря.
Ах, как я жил! Темнил, шумел, любил. Ворону – помнил,
голубя – забыл,
Не высыпался. Кто там спозаранок играет в кость,
гружёную свинцом,
позвякивая латунным бубенцом – в носатой маске,
в туфельках багряных?
«Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой…»
Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой,
вероятно. Налей мне чего-нибудь горячительного, ангел мой,
чтобы жизнь не осталась занозою и обузою – правда, налей.
Что мне делать с зимующей музою,
с растерявшейся музой моей?
Что мне делать, когда я в истерике – а казалось,
что всё по плечу, —
по Европе, России, Америке, будто брошенный камень, лечу,
и в воздушном обиженном княжестве, словно косный
и мёртвый предмет,
несговорчивой силою тяжести утешаюсь на старости лет?
«Зимой в Венеции туристы топ да топ, кто в чёрных домино, кто нацепил личину…»
Зимой в Венеции туристы топ да топ, кто в чёрных домино,
кто нацепил личину
печальную. О град, стеклянный гроб утопленницы.
Страсть неотличима
от ненависти – или всё не так, и ты ошибся, странник?
Твой напарник
разглядывает решетки, на мостах застаивается.
В краях высокопарных,
и в низменных краях, и в неизменных —
ложь помножена на ложь, присыпана могильной
землёй. Вот наша жизнь – пригубишь ли, прольёшь,
прокрутишь ли любительскою фильмой
восьмимиллиметровой – мокрый мел на мостовых,
и звуков, как в помине.
Бесчинствовал, храбрился, не посмел,
как ряженые простодушные… Отныне
не благоденствуй, медную доску протрави соляной кислотой,
рыдай, предайся пьянству,
но только не молчи, не вычитай любви из времени,
отлива – из пространства.
Да, человек пред Богом нагл и гол, с водою крепкою,
с непросветлённым ликом,
он слово мясопуст запомнит, как глагол —
в прошедшем времени, в отчаянье великом,
вдохнёт мукой обсыпанную тьму в овальном зеркале,
в неправде карнавальной —
и кто-то в маске ибиса ему артерию пробьёт
иглой гравировальной.
«Не плачь – бумага не древней, чем порох…»
Не плачь – бумага не древней, чем порох,
и есть у радости ровесник – страх
в заиндевевших сумрачных соборах,
где спят прелаты в кукольных гробах.
Пусть вместо моря плещет ветер синий
по горным тропкам. Словно наяву,
следи за кронами качающихся пиний
и не молись ни голубю, ни льву.
И где-то в виннокаменной Тоскане
жизнь вдруг заговорит с тобой сама
о смысле ночи, набранном значками
орхоно-енисейского письма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу