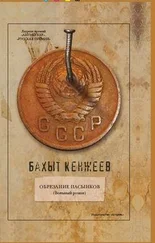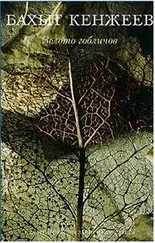«Старые фильмы смотреть, на февральское солнце щуриться…»
Старые фильмы смотреть, на февральское солнце щуриться.
Припоминать, как водою талой наполнялись наши следы.
Детские голоса окликают меня с заснеженной улицы,
детские голоса, коверкая, выкрикивают на все лады
имя моё. Над Москвой – деловой, дармовой, ампирной —
мягкая пыль времени оседает на крыши, заглушая
перебранку ли, перекличку. Сказать по правде, мир мой
обветшал и обрюзг за последние годы. Небольшая
это беда, да и что кокетничать, потому как
притча насчёт земли и зерна, как и ранее,
справедлива. Ещё не вечер. Поднаторев в науках —
природоведении, арифметике, чистописании —
дети играют в войну, ружьями потрясают, большими
саблями, пистолетами. Падают в мокрый снег
и хохочут. Нет, пожалуй, всё-таки это чужое имя,
или вообще не имя, а попросту – детский смех
чередуется с криками, и право слово, неважно
в чём их смысл, белладонны довольно ещё в зрачке,
соглядатай, прильнувший глазом к замочной скважине,
за которой бездонный спор на неведомом языке.
«Вечер страны кровав и лилов, ворон над ней раскрывает рот…»
Вечер страны кровав и лилов, ворон над ней раскрывает рот.
По Ленинграду спешит господин Ювачёв с банкою шпрот,
с хлебною карточкой, лох, с номером «Правды» в руке,
будь у него котелок – то спешил бы домой в котелке,
и рассмешил бы вас, и тоскою пронзил висок.
Так господин Ювачёв долговяз, и дыряв у него носок.
В клетчатый шарф спрятался он, в вытертый плед,
жизнь, уверяет, фарс, а смерть так и вовсе бред,
к чёрным светилам поворотясь тощим лицом,
чаю с баранками, что ли, выпить перед концом…
«Старинный жанр прогулки городской…»
Старинный жанр прогулки городской,
ямб пятистопный – белый, благородный,
неспешный ритм шагов по мостовым…
Давно уже, любовь моя, по ним
не проходил курчавый Александр,
ленивый Осип, Александр другой —
но в точности как первый ветрогон
и алкоголик. Все они, в краях
недостоверных, облачных, туманных,
беседуют друг с другом, усмехаясь,
когда бросают взгляд на землю нашу,
где отжили, отмаялись, оставив
в наследство нам вечерний переулок
с кирпичным силуэтом колокольни,
настырных голубей в прохладном парке,
которых, коли помнишь, при Хрущеве
отлавливали сотнями, сетями
особыми, с неведомой заразой
сражаясь. Нынче в городе всё больше
ворон, не голубей, поди поймай
её, хитрюгу, с золотым колечком
в огромном клюве, да и крысы что-то
чрезмерно расплодились. Но зато
не так суровы зимы, и весна
приходит раньше. Правда, во дворах
ещё чернеет снег, и резок ветер.
Ты мёрзнешь? Не беда. Настанет май,
откроются пруды, где можно лодку
взять напрокат, и всласть скользить, скользить
над зарослями сонной элодеи…
«Ликовал, покидая родимый дом, восхищался, над златом чах…»
Ликовал, покидая родимый дом, восхищался, над златом чах,
не терпел сластей, рифмовал с трудом, будто камень нёс
на плечах,
убеждался в том, что любовь – обман, тайком в носовой платок
слёзы лил, и вдруг захотел роман написать в сорок тысяч строк,
в сорок тысяч строк, триста тысяч слов, это ж прямо война и мир,
прямо змей горыныч, семиголов, ты поди его прокорми, —
и пошёл скандал, незадача, зачерствелый сухой паёк.
Я, ей-богу, давно бы начал, да чернил в чернильнице йок,
тех ли алых чернил, которыми тот подписывают договор…
Пахнет газом, каркают вороны, на задворках полночный вор
клад разыщет – а в четверть пятого затевает опять копать,
перекапывать, перепрятывать, не даёт мне, гад, засыпать…
Если свет начинался с молчания, с исцеления возложеньем рук,
если б знал я свой срок заранее, если был бы искусствам друг —
восторгался б любой безделице, ну и что, говорил бы, пускай
жизнь моя не мычит, не телится, постирай её, прополоскай —
кто-то корчится в муках творчества, беспокоен, подслеповат,
и густеет ночь-заговорщица, и на радиоперехват
выходя, я дрожу от холода. Пуст мой эфир. До чего ж я влип.
Только свежего снега легчайший хруст, только ангела
детский всхлип.
«Лгут пророки, мудрствуют ясновидцы…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу