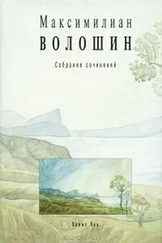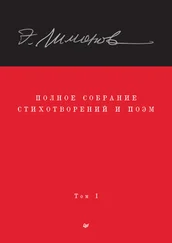Прочтение репрезентативного количества текстов такого рода – нескольких опубликованных сборников Гейнцельмана – позволяет выявить использование сходных формулировок, повторение образов, доминирование нескольких излюбленных форм и размеров. Очевидно, его поэтика для достижения своих целей способна ограничить вариацию и свести к минимуму эксперимент. Осознанность такого снижения вариативности выражается и в письме к Кюфферле: «Теперь я вернулся к форме сонета, предпочитая сконцентрировать мотив или переживание в 14 строчек, чтобы не расплыться, как летние облака». Лирика подчиняет себе прочие формы поэтической речи, что дает основание Гейнцельману сказать: «я написал несколько драматических произведений, но они мало чем отличаются от моих лирических стихотворений». Как мы видим, при реализации такого механизма создания потока текстов (ср. «О них уж столько я писал, Что счет элегий потерял») происходит обнажение приема, возникновение устойчивых ассоциативных групп и определенного формульного стиля [13] Поляков Ф.Б. Иероглиф и фреска. Мифопоэтические рефлексы поэтики модернизма в творчестве Анатолия Гейнцельмана // Die Welt der Slaven, XXXIX/1 (1994). С. 160.
. Наряду с формализацией повествовательных схем в поэзии Гейнцельмана действуют и парадигмы мифопоэтического переосмысления изображаемого. Чтобы представить себе их комбинаторные возможности, обратимся к некоторым компонентам поэтического космоса Гейнцельмана.
Анатолий Гейнцельман был уроженцем колонии Шабо, основанной швейцарскими переселенцами в 1822 г. в Бессарабии, недалеко от Одессы. История этого миграционного процесса исследована в рамках цюрихского проекта о русско-швейцарских связях [14] Roman Bühler, Heidi Gander-Wolf, Carsten Goehrke, Urs Rauber, Gisela Tschudin, Josef Voegeli, Schweizer im Zarenreich. Zur Geschichte der Auswanderung nach Rußland (Zürich, 1985) [Beiträge zur Geschichte der Rußland-Schweizer, Bd. 1]. – В октябре 1992 г. по немецкоязычному швейцарскому телевидению был показан репортаж Helen Stehli Pfister о Шабо, в котором приводились интервью с несколькими его уроженцами, вернувшимися в Швейцарию. Мы обратились к одному из них с вопросом о Гейнцельмане, фамилия которого у нашего собеседника оказалась на слуху, и он упоминал о запомнившихся ему каких-то связях этой семьи с текстильной торговлей.
. Поселение просуществовало недолго, не более столетия, Гейнцельман окончательно покинул родные места незадолго до распада прежнего жизненного уклада. Однако и скорый конец, и недавность освоения пришельцами нового места в «дни Александровы» только оттеняют всю древность исторических реминисценций и бесчисленность человеческого передвижения в этих краях. Глубина такого воспоминания об освоенном и родном пространстве сопоставима, как нам представляется, с крымско-киммерийской мифологемой Максимилиана Волошина.
В изначальном мире Гейнцельмана традиции швейцарских переселенцев, протестантские правила бытовой организации («Там висел квадратный доктор Мартин Лютер»), немецкоязычное обличие культуры переплетаются с этнической и языковой пестротой, православным и иным благочестием, еще живым воспоминанием об османском владычестве. Современность утверждает себя в пространстве, заполненном материальными знаками археологической древности, когда почти стираются различия между свидетельствами мира античного и мира варварского, когда лишь немногие из них поддаются датировке, т.е. несут на себе знак исторического времени. Швейцарская традиция со всей своей замкнутостью превращается в экзотику, а пестрота окружения становится нормой. Немецкая языковая стихия Гейнцельмана открывает путь к русской, в которой поэт принимает решение остаться, хотя немецкая культура не утрачивает, по-видимому, своего высокого статуса в его сознании, поскольку письмо к Кюфферле, петербуржцу по рождению и литератору, принадлежащему к нескольким культурам, он символически завершает цитатой из баллады Гёте «Певец» («Der Sänger») в оригинале [15] В целом обращает на себя внимание эта связь литературного отшельника Гейнцельмана с Р. Кюфферле (1903–1955), известным переводчиком (в том числе переводившим и Гёте на итальянский), собеседником Вяч. Иванова; ср. о нем: «Среди миланских друзей был также Ринальдо Кюфферле, писатель, поэт, прекрасно знающий по-русски, переводчик многих русских оперных либретто на итальянский язык; это был живой интересный человек, ревностный антропософ»; Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце / Подг. текста и комм. Джона Мальмстада. Париж, 1990. С. 181–182. См. также: Daniela Ruffolo, Vjačeslav Ivanov – Rinaldo Küfferle: Corrispondenza //Archivio italo-russo. A cura di Daniela Rizzi e Andrej Shishkin / Русско-итальянский архив. Составители Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. P. 563–601 (Labirinti, 28).
. Именно в южнорусском пространстве перекрещивание культур является знаковой характеристикой (что, в частности, подчеркивает и Волошин). Наиболее ощутимо выражение такой культурной полифонии в многоязычии всех черноморских регионов. О восприятии его уроженцами Севера говорит, например, такая деталь в воспоминаниях выдающегося историка искусства, москвича Н.П. Кондакова о его прибытии в Одессу: «Столь же восхитила меня любопытная характерность своеобразного южного города, напомнившего мне европейские закоулки. Мне нравилось, гуляя по Одесскому бульвару, слышать со всех сторон итальянский, французский, греческий языки и с недоумением оборачиваться, заслышав русский разговор» [16] Кондаков Н.П. Воспоминания и думы / Сост., подг. текста и прим. И.Л.Кызласовой. М., 2002. С. 132.
. Элиас Канетти, уроженец Рущука на Нижнем Дунае, зафиксировал воздействие этого языкового смешения на свои детские впечатления, когда в один день можно было услышать речь на семи-восьми языках [17] Elias Canetti, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. 2. Auflage (Mün-chen–Wien, 1977), S. 10.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу