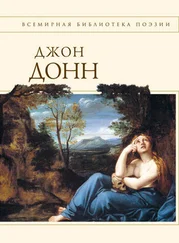Не пробуди нас крыльями струны,
Окованы вселенской мы утробой,
С других планет на землю сходят сны.
С других планет на землю сходят сны,
Вздвигают башню страстные народы,
То крепкий материк темнобородый
Свой пол вонзает в мякоть вышины.
Столпотворением сокрушены
Столетние гранитные породы,
Покорствуя безумию природы,
Смешался и язык моей страны.
О плоская земля, о край бескрайный.
Бандиты здоровенные Украйны,
Одетые в овечьи зипуны,
Ругаются на эсперантской смеси,
А в юртах самоеды, как в медресе
Востока загорелые сыны.
Востока загорелые сыны
Оставили таинственные знаки,
Торжественны развалины в Карнаке,
До сей поры их письмена темны.
Покрыл колонны снег седой луны,
Изъела солнца розовая накипь,
Травой одетый камень стал инакий,
Где был гарем, пасутся табуны.
Но змеи в той траве скользят ручьями,
И черепаха приютилась в яме,
А в небе коршуны богини Мут
И лёт мышей и робкий лёт совиный.
Так взрослые в невзгоду не поймут,
Как дети улыбаются невинно.
Как дети, улыбаются невинно
Закутанные в глину черепа,
Их мать веселая как смерть скупа
И ждет на паперти у гильотины.
А синий сумрак, синий, беспартийный
В крови, в крови пустынного столпа,
Которому вослед ползет толпа
Трудолюбивой гущей муравьиной.
Песчаное безбрежье, властно страсть
И страстно власть стараются украсть
У сонного грядущего колеса.
Но непролазны жидкие пески,
И всходит грязь талантливого лёсса
Лучами человеческой тоски.
Лучами человеческой тоски
Унизаны и траурны ресницы,
Не надо их поднять, пусть вечно снится
Нам пестрый край, увитый мастерски.
Он радостнее пушкинской строки,
Он солнечней, чем в масленицу Ницца,
Но так тонка, тонка его граница,
Что смерть – прикосновение руки.
Он отразился в зеркалах полотен,
Но я как мастер буду чистоплотен,
Я в кровь не раздавлю свои мазки.
Мой караван в песках, мои в бальзаме
Мечты, самума черными слезами
Верблюжьи переполнены зрачки.
Верблюжьи переполнены зрачки
Агатовою тьмой ночного Нила,
Дневное пламя туча заслонила,
Оскалились кругом солончаки.
Оазисы как звезды далеки,
Мираж потух, и тихо, и уныло.
О, вспыхни хоть, самум, зажги горнило
Могучей тьмы и в тьму нас увлеки.
Не всё ль равно нам, месяц ли двурогий
Или рогатая звезда на дроги
Положат наши мертвые тела, –
Двадцатый век и жертвоприношенье…
Ослица б Валаама вас кляла,
И молока ослицы нет священней.
И молока ослицы нет священней,
На Кубе – острове, Гаваны близ,
Младенцев кормят молоком ослиц,
И женщины поют при их доеньи.
Поэты, правда, там не развелись,
Строк не склеить в тропической геенне,
Хозе-Рауль-и-Граупера гений
Один там блещет, горд и смуглолиц.
Вас россиян – мильонов полтораста,
Книг сотни полторы б вам для контраста,
На миллион одну б, я ж издаю
Все тысячи, питая век грядущий,
Когда людьми отчизна будет гуще,
Я думою блуждаю в том краю.
Я думою блуждаю в том краю,
Где небо низко и краснее крови,
Где воздух жалит и мороз суровей,
Чем зной песка, согревшего змею.
Там шар земли привинчен к бытию,
А то, что бытие, скрутило брови
И скорчилось, горбясь в льдяном покрове,
Выкраивая медью мощь свою.
А там внизу, где кольцами широты
Вцепились в мир, где лик его безротый
В пяти материках, изрытых сплошь,
Там гул внизу, там пьяное круженье
Мне весело смотреть с высоких лож,
Во мне строкою зреет отомщенье.
Во мне строкою зреет отомщенье,
Четвертая из граций, это месть,
Поет свою торжественную весть,
Как торжествующее песнопенье.
Мой череп как скала в свирепой пене,
В лучах кудрявых буду звонко цвесть,
В приливах времени и жемчуг есть,
И есть гниенье падали тюленьей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу