………………..
Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки…
Уберечь, спрятать от всего — где найти самое надежное место? Ответ Матери — прост:
Но мало — пещеры,
И мало — трущобы!
Могла бы — взяла бы
В пещеру — утробы.
«Когда я вижу новорожденного — у меня всегда мелькает дикая мысль: несчастный, непоправимое уже случилось, ты уже никаким чудом не можешь туда, обратно, в материнское темное и теплое лоно, — хочешь не хочешь, а тебе надо будет жить, как всем другим» (Штейгер А. «Детство»).
Нужны ли еще какие-либо объяснения?
Любовь, как и дружба, есть действие. Действовать, делать — для того, кого любишь, — вот незыблемое убеждение Цветаевой, сокрытый очаг «тайного жара». «Убеди меня, что я тебе — нужна . (Господи, в этом все дело!), раз-навсегда убеди, т. е. сделай, чтобы я раз-навсегда поверила, и тогда всё будет хорошо , потому что я тогда могу сделать чудо».
Первого сентября, Цветаева отправила Штейгеру письмо о его двух стихотворениях, урок гениального Мастера — Ученику. Не брать в кавычки, не делать условными насущные слова и понятия: жалость, труд, страдание, больничная палата, любовь, подвиг, — вот ее требование к автору, закомплексованному собственной бедой и словно стыдящемуся бед людских вообще. И завет: « Слейте . Берите из себя письменного (не из писем, а из того, кто — или верней: что их в Вас пишет). Отождествите поэта с человеком. Не заставляйте поэта говорить ни жестче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек».
Вот второе стихотворение Штейгера, впоследствии посвященное Цветаевой:
60‑е годы
В сущности, это как странная повесть
«Шестидесятых годов дребедень»…
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.
Мысли о младшем страдающем брате ,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.
И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)
…Второго сентября она все-таки съездила в Швейцарию, где не была более тридцати лет — с детства! — движимая романтической (девической) мечтой ступить на землю, на которой пребывает он . «Моя Женева» — так назвала она письмо от 3 сентября, где рассказала об этой однодневной автомобильной поездке; как в роскошном универмаге купила ему куртку, как желала сама стать этой курткой, чтобы согреть и уберечь… Как возвращалась лунною ночью обратно… Вернувшись из Женевы, 3 сентября надписала книгу «Ремесло», несколько лет пролежавшую у Тройского, которого в свое время просила переправить ее в Москву, но это не удалось: «Анатолию Штейгеру — с любовью и болью».
Письма сменялись стихами — почти исступленными, не знающими меры. Да разве знала меру душа поэта? «В коросте — желанный, С погоста — желанный: Будь гостем! — лишь зубы да кости — желанный!»
И наконец — шестое стихотворение — апофеоз, ликование, озарившее поэта счастье:
Наконец-то встретила
Надобного — мне:
У кого-то смертная
Надоба — во мне…
………………..
Мне дождя, и радуги,
И руки — нужней
Человека надоба
Рук — в руке моей…
Это написано 11 сентября, — а через несколько дней всё рухнуло.
Пятнадцатого сентября Цветаева получила от Штейгера письмо; он, по-видимому, сообщал, что едет в Париж, и простодушно упоминал Адамовича, с которым намеревался общаться. «Может быть Вы — внутри больнее чем я думала и верила — хотела думать и верить? — жестоко отвечала Марина Ивановна. — Ибо ждать от Адамовича откровения в третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть? До чего — не быть !»
Мать отреклась от сироты …
Единственное сохранившееся письмо Штейгера (ответ на это цветаевское) от 18 сентября — печально и честно: «Я… в первом же моем письме на 16 страницах — постарался Вам сказать о себе все, ничем не приукрашиваясь, чтобы Вы сразу знали, с кем имеете дело, и чтобы Вас избавить от иллюзии и в будущем — от боли… Между моим этим письмом на 16 страницах и моим последним письмом нет никакой разницы… Но зато какая разница в Ваших ответах на эти письма… После первого Вы называли меня сыном, — после последнего Вы “оставляете меня в моем ничтожестве”».
«…в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать, — продолжает Штейгер, проявляя редкую проницательность. — Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, — потому что больше он на них не лежит».
Читать дальше
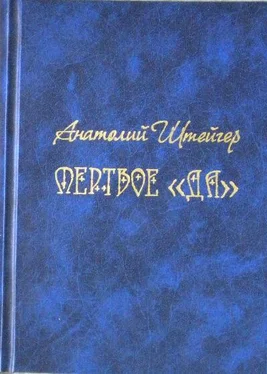



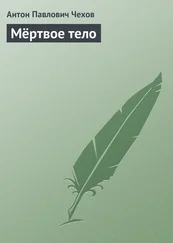


![Анатолий Чехов - Мертвая зона [Повести]](/books/400001/anatolij-chehov-mertvaya-zona-povesti-thumb.webp)


