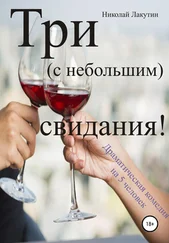Не случайны были обращения Н. М. Максимова сперва к космистам, затем к символистам, акмеистам, неоклассикам. Воспитанный в условиях высоко-интеллигентной культуры, с ее традициями и прочно установившимся бытовым укладом, по-своему воспринявший в школе туманную, сдобренную мистикой теорию «космического сознания», Н. М. Максимов в творчестве пролетарских космистов почувствовал нечто притягательное и понятное именно своей борьбой с традиционным бытом, с застойным существованием, с земным прозябанием. «Планетарность», космическая ритмичность закономерностей, коллективистичность сознания и волеосуществления — эти идеологические принципы космизма были прочно впитаны покойным, равно как и система поэтики космистов. Не печатавший нигде своих стихов, не связанный ничем и ничем не вынуждаемый к неискренности, фальши и приспособленчеству, Н. М. Максимов писал в своих стихах не с чужого голоса, не лицемеря, а вполне сознательно и честно. Принадлежность к другому, нежели пролетариат, классу не служила в данном случае препятствием, так как поэт не оставался в то время на позициях класса, из которого происходил, но начинал постепенно эти позиции сдавать: в процессе классовой борьбы миграция отдельных индивидуумов из борющихся группировок в стан противников явление частое. Еще Маркс и Энгельс писали об этом в «Коммунистическом Манифесте»: «Наконец, в эпохи, когда классовая борьба приближается к своему решительному моменту, процесс распада внутри господствующего класса, внутри всего старого общества, приобретает столь сильный, столь яркий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и присоединяется к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее. Подобно тому, как прежде некоторая часть дворянства перешла к буржуазии, так часть буржуазии переходит теперь к пролетариату, и именно часть буржуазных идеологов, которые выработали в себе теоретическое понимание всего исторического движения». Конечно, не все в одинаковой мере далеко переходят границы, отделяющие один класс от другого. Некоторым удается это в большей, некоторым в меньшей мере, некоторые, наконец, как и та часть буржуазии, к которой принадлежат, колеблются, делают зигзаги и петли, иногда возвращаются вспять. Важно только то, что исторический процесс задел их и увлек в сферу своего влияния.
При анализе «Стихов» Н. М. Максимова едва ли можно сомневаться в том, что слова Маркса и Энгельса в известной мере применимы и к нему. Историческое образование, основательное знакомство с историческими и теоретическими трудами классиков марксизма — все это делало Н. М. Максимова одним из тех «буржуазных идеологов, которые выработали в себе теоретическое понимание всего исторического движения». Это не значит, конечно, что Н. М. Максимов сделал бы тот шаг от буржуазии к пролетариату, о котором сказано в «Коммунистическом Манифесте». Но оспаривать тенденции развития идеологической системы Н. М. Максимова безнадежно: наличные факты его поэзии делают невозможным какое-либо сомнение.
Но путь развития Н. М. Максимова не был прямолинейным: за периодом космизма идет полоса пессимистически-упадочных настроений, для выражения которых поэтика космистов была никак не пригодна; покойный поэт поддается воздействию распространенного в те годы в среде среднебуржуазной интеллигенции акмеизма, утратившего под влиянием революции свою агрессивно-империалистическую оболочку, над созданием которой особенно трудился Н. Гумилев. К этому времени в поэтике акмеизма сохранился на позитивизме основанный реализм, противополагавшийся явному метафизическому идеализму символистов. Может быть, этим и объясняется успех акмеизма у тех поэтов, выходцев из буржуазии, которые в силу особенностей своего классового мировоззрения не могли перейти на позиции диалектического материализма. Для этого периода русской поэзии значение акмеизма было в известной мере положительным. Не случайно, конечно, то обстоятельство, что влиянию акмеизма подпали многие современные русские поэты. Это отмечает поэт В. Саянов в статье «К вопросу о судьбах акмеизма». Он пишет: «Наряду с намечающимся усилием футуристического влияния на современную поэзию, все сильнее начинают выявляться акмеистические тенденции русского стиха не только в произведениях молодых поэтов, но даже и на материале крупнейших поэтов футуризма (см. «Электриаду» Н. Асеева). Акмеистическая традиция явно ощущается в поэзии Сельвинского, Светлова, Ушакова, Багрицкого, Дементьева. Тихонов сочетал в своем творчестве элементы акмеизма с принципами творческой работы Велемира Хлебникова. Это намечающееся сближение футуристической и акмеистической традиций на социально новом материале становится все очевидней, судя по творчеству современных русских поэтов» [3] В. Саянов. От классиков к современности. Критические статьи, Л., «Прибой», 1929, стр. 158.
.
Читать дальше
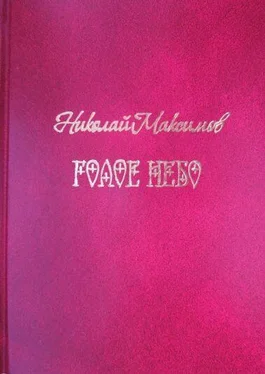

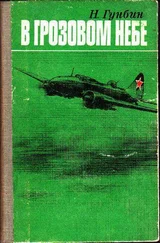
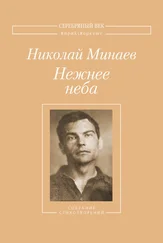

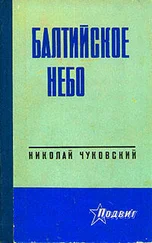
![Николай Коростелев - Гнев Неба [litres]](/books/432374/nikolaj-korostelev-gnev-neba-litres-thumb.webp)