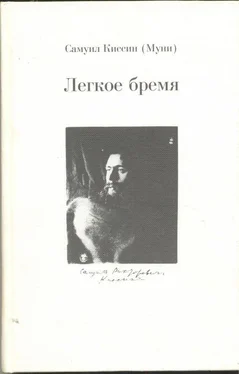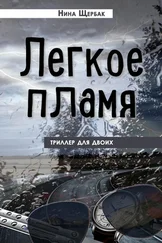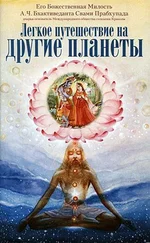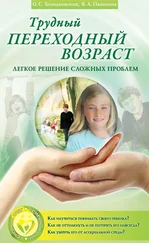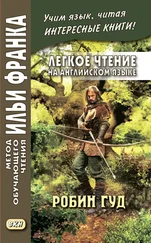Ходасевич каждой клеточкой ощущал Муни, узнавая, находя отражение многих его черт в себе. Тем более, что в конце 20-х — начале 30-х годов он вдруг понял, что очутился перед поворотом, который Муни преодолеть не смог. Вероятно, так же, как Муни в 1916 году, он подошел к той смене эпох, стыку, через который не имел сил перебраться: он заметался, не находя места, задыхаясь, не узнавая местности, и — замолчал.
Небо, которое они видели, чувствовали и сквозь дырявый зонт, — исчезло, его не стало. Поэт очутился «Под землей», «где пахнет черною карболкой», в глубоком подвале дома свидании («Звезды») или подвальном полутемном кафе («Атлантида»), без окон и света, где только дешевые картинки на стенах напоминали, что где-то есть свет, воздух, движение. Он «загонял» «своих ангелов», которых вынуждал спускаться все ниже и ниже, «в теснины и трущобы», и они летели все тяжелей — «сквозь провода». До поры стремительное, шелковое, свистящее и летящее в небо, как стрела, сквозь вытягивало и стихи, и автора. Но в конце концов небо и земля сомкнулись в одну линию, не оставив и щелочки для продыху.
Адом для Ходасевича стал подвал французского кафе, того ли, где написаны «Звезды» («Вверху — грошовый дом свиданий, // Внизу — в грошовом казино…»), или кафе «Murate», изображенного в «Атлантиде», — приличный, чистый подвал, где столы натерты воском и блестит кафельный пол. Но ведь Данте (а от «Божественной комедии» к творчеству Ходасевича тянется множество линий) писал об аде: «То был, верней, естественный подвал с неровным дном, и свет мерцал убого» (Перевод М. Лозинского).
Ходасевич с какого-то момента отказался публиковать стихи, а среди них были «Памятник» (1928), «Не ямбом ли четырехстопным…» и «Памяти кота Мурра» (1934), «Сквозь уютное солнце апреля» и «Нет, не шотландской королевой…» (1937).
Кирилл Померанцев, назвавший свою статью о Ходасевиче «Пределы творчества», раздумывая над тем, почему поэт замолчал, писал:
Ходасевич перестал писать стихи. Он пал, как Люцифер, с головокружительных вершин безумия, не себя переоценив, но свой дар — поэзию. Он требовал от нее, чтобы она стала огненным дождем, а она оставалась «сладкими звуками». <���…> Ходасевич замолчал, потому что он потерял веру в единственно еще достойное веры — в поэзию [263].
Но даже судя по названным ненапечатанным стихам, Кирилл Померанцев был не прав: в поэзию Ходасевич верил до конца. Он перестал верить в людей, которым нужна поэзия, в возможность достойной жизни на земле, на собственном затылке ощущал тяжелое дыхание мировой войны, перестал различать даже скрежет, визг, громыхание «железного века». На протяжении десятка лет вслушивался он, как умирает его время, каждого уходящего провожал последним словом. И с каждым уходящим отмирало что-то в нем самом.
Видно, что молчание давалось поэту нелегко, что он думал над причинами его, по-разному объясняя их в «Некрополе» и в статьях, особенно в статьях о символизме и символистах; в автобиографических произведениях, в повести «Державин», в пастише «Жизнь Василия Травникова». Да ведь одного ответа на этот вопрос и быть не могло!
Но больше, чем в других произведениях, открылся он в пародии, мистификации «Жизнь Василия Травникова», которую прочитал на вечере в Париже 8 февраля 1936 года, выступая вместе с Набоковым. Набоков читал рассказы, Ходасевич свой рассказ, где все создано его воображением: герой, его стихи, — все за исключением отрывочка из стихотворения «Шмелей медовый голос…», принадлежавшего Муни, — выдал за документальное историко-литературное исследование о поэте конца XVIII — начала XIX века.
Удивительно, что никто из присутствовавших — а там были известные критики, писатели, поэты, и молодые, и сверстники Ходасевича — не усомнился в достоверности рассказанного, не разглядел иронической улыбки, откровенно пародийных, стилизованных черт и сознательных отступлений от истории литературы, «ошибок».
Даже такой скептик и постоянный оппонент Ходасевича, как Адамович, можно сказать, поздравил автора с открытием столь яркого литературного явления, как Василий Травников:
В первые 10–15 минут чтения можно было подумать, что речь идею каком-то чудаке, самодуре и оригинале, из рода тех, которых было так много в былые времена. Но чудак, оказывается, писал стихи, каких никто в России до Пушкина и Баратынского не писал: чистые, сухие, лишенные всякой сентиментальности; всяких стилистических украшений. Несомненно, Травников был одареннейшим поэтом, новатором, учителем: достаточно прослушать одно его стихотворение, чтобы в этом убедиться [264].
Читать дальше