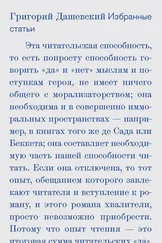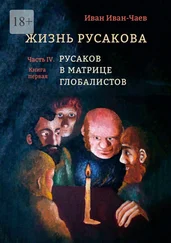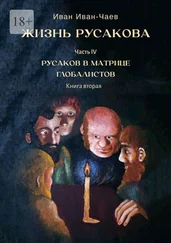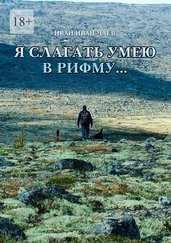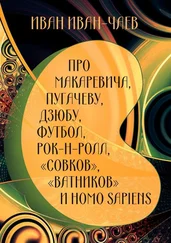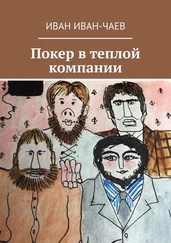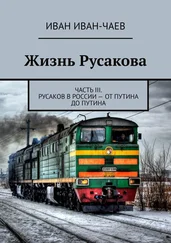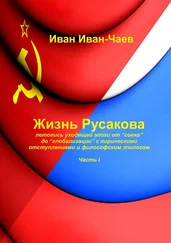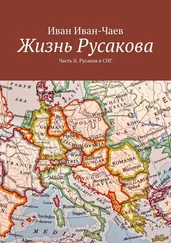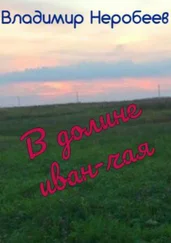раздавшийся стон заглушен,
к зарытому в воздух покою,
который и им все родней.
Но тает тайник и с собою
тот клад, что в нем был заключен,
уносит за ряд огней.
Найти бы, сиянию вторя,
источник и счастья и горя.
Но жизнью всегда загражден
взгляд встречный, страданье чужое —
прозрачною, прочной, своей.
Ноябрь 1984
Ни себя, ни людей
Нету здесь, не бывает.
Заповедь озаряет
Сныть, лопух, комара.
Ноет слабое пенье,
Невидимка-пила:
Будто пилит злодей,
А невинный страдает,
Побледнев добела.
Но закон без людей
На безлюдьи сияет:
Здесь ни зла, ни терпенья,
Ни лица — лишь мерцает
Крылышко комара.
«Знамя», № 10 за 2003 г.
Чужого малютку баюкал
возьми говорю мое око
возьми поиграй говорю
Уснул наигравшись малютка
и сон стерегу я глубокий
и нечем увидеть зарю
август 2004 «Критическая Масса» 2004, №3
Сергей Завьялов
Рефлексии
Рецензия на: Григорий Дашевский. Генрих и Семен
Имя Григория Дашевского — не самое громкое на литературном слуху, однако, у этого поэта имеются, на первый взгляд незаметные, черты, ставящие его в первый ряд тех, кто привлекает внимание. Это проявляется и в биографии (а куда мы от нее денемся?) и в стихах. Филолог-классик, преподающий в одном из наиболее престижных интеллектуальных центров страны, РГГУ, являет собою скорее западный тип поэта-профессора (Чеслав Милош, Шеймас Хини, Дерек Уолкотт), чрезвычайно далекий от прожженной российской богемы. Дашевский, тем не менее, прошел школу Тимура Кибирова. Будучи на десятилетие моложе мэтра, он отдал ему дань в открывающей книгу поэме «Генрих и Семен» (у Кибирова в «Интимной лирике» в свою очередь есть трогательное посвящение нашему поэту), да и в целом поэтика Дашевского построена всё на том же центоне и всё на той же пастиши, но только как она построена? Вот перед нами знаменитое стихотворение Сапфо, известное также в переложении Катулла:
Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или
его фотокарточки над подушкой,
кто в глаза медсёстрам серые смотрит
без просьб и страха
а мы ищем в этих зрачках диагноз
и не верим, что под крахмальной робой
ничего почти что, что там от силы
лифчик с трусами.
Тихий час, о мальчики, вас измучил,
в тихий час грызёте пододеяльник,
в тихий час мы тщательней проверяем
в окнах решетки.
Это совсем непохоже на обычный стеб, мы чувствуем, как нечто зловещее изображается пастишированием одного из самых трагических текстов античности. Напомним греческий оригинал:
Мне кажется он может быть причислен к богам
этот муж что сидит напротив тебя
и так близко слышит твой сладостный лепет и смех
что рождает желанья
У меня же сердце оборвалось внутри с первого взгляда
И вот уже на языке замирают слова
озноб пробегает подкожным огнем
почернело в глазах звон какой-то в ушах
Я насквозь промокла от пота
стала зеленее травы
меня колотит озноб еще немного
и я умру мне кажется
(Перевод свободным стихом наш)
Но если у Сапфо Эрос изводит героиню до того состояния, когда она уже не в силах отличить его от Танатоса, а у Катулла, за которым в последней строфе (её нет у лесбосской поэтессы) следует автор, при всей его дурашливости, слышно биение сердца, подозрительно рано остановившееся (мы не знаем обстоятельств его смерти), то у Дашевского Смерть (по-русски в отличие от греческого существо женского пола) является в больничную палату в обличье сексуально влекущей молодой медсестры. И как бы ни были простодушны молодые поклонники попсовой героики, даже у них нет ни малейшего повода усомниться в том, с кем (с чем) они имеют дело.
Увлекательны и игры поэта с экзотическими размерами. Так, приведенное выше стихотворение «Тихий час» было написано достаточно тривиальной для античной традиции (но не для русской поэзии, тем более современной) сапфической строфой. Но вот в предыдущем, «Москва-Рига», мы встречаемся с более редким видом строфы, составленной из трех гликонеев и одного ферекратея. Строфа подобного вида встречается у Анакреонта (PMG 3, 13, 15) и у Катулла (34). В своем стихотворении Дашевский следует за Катуллом, стихотворение которого, гимн Диане — богине луны, хрестоматийным не назовешь, актуальность его для современного читателя невелика. И, видимо, здесь для поэта и возникает тот случай заманчивой высокой игры, сродни решению сложной задачи или шахматной партии, смысл которого в постулировании того возможного драматического смысла, который мог быть в латинском источнике, но который оказался закрыт для нас толщей времени:
Читать дальше