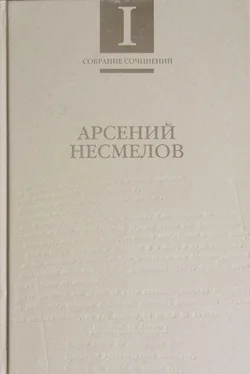В сумасшедшей Москве перемены опять,
Мчит гонец, подгоняемый вьюгою.
Из далеких Даур возвращается вспять
Аввакум с ясноглазой супругою.
И над долей его свет забрезжил иной —
Разгорается слава, что зарево:
Здесь встречают его умиленной слезой,
Там обласкивают и одаривают.
Отдохнуть бы теперь от битья да от троп,
На которых под лямкою падали,
Но замолк, но затих, заскучал протопоп,
И суровые брови запрядали.
И от Марковны та не укрылась тоска,
И, когда он молчал да раздумывал,
Подошедшей ея опустилась рука
На большое плечо Аввакумово.
И с опрятством к нему приступила жена,
Как ладейка к утесу причалила…
Наклоняясь к челу, вопросила она:
«Господине, почто опечалился?»
Тяжким взглядом своим отстраняя, гоня,
Горько вымолвил другу он нежному:
«Что, жена, сотворю? Вы связали меня…
Не стоять мне за веру по-прежнему!»
Отшатнулась жена: не одним ли путем
Через дебри Пашковские хожено?
Отставала ль она, не была ли при нем
Ежечасно, как другу положено?
«Боже милостливый! — ужаснулась она. —
Что такое ты вымолишь, выискал?..»
И молчал протопоп. И была тишина
В их избе, где ребенок попискивал.
И сказала жена, и супругу свою
Протопоп не узнал на мгновение:
«Аз ти вместе с детьми ныне волю даю
И на подвиг благословение!»
И шагнула вперед, и уже не дрожит
Ее голос струною натянутый:
«Если ж Бог разлучит, так о нас не тужи,
Лишь в молитвах своих не запамятуй!»
И умолкла она. И в волненьи таком,
Что душа и пылала, и таяла,
Протопоп Аввакум бил супруге челом,
И супруга, подняв, обняла его.
И была эта ночь как руля поворот
Для их лодочки легкой двухвесельной:
С успокоенных вод в новый водоворот
Он стремительно вновь перебросил их.
Над тюрьмой земляной крыши белый сугроб,
На оконце ржавеют железины:
Закопали тебя, Аввакум-протопоп,
В Пустозерске, а Марковну — в Мезени.
Худ и наг протопоп, и его борода
Серебром заструилась до пояса,
Но могучей спины не сгибают года,
И не может душа успокоиться.
Он склонен над столом, и пера острие
Слово к слову находит точеное.
У руки же его, там, где тень от нее,
Мышка бегает прирученная.
«Божья тварь!» — и тепло заструили глаза
На комочек на этот на бархатный…
Полюбила тебя не за этот ли за
Светлый взгляд горемычная Марковна?
За уменье понять, улыбнуться светло,
Пожалеть неуемного ворога,
И за это любви золотое тепло
Заплатила подружие дорого.
Оторвали тебя, да и сам отошел, —
Отстранило служение раннее, —
И хоть пишешь письмо, и письмо хорошо,
Но выходит оно как послание .
И Петровича нет меж священных цитат:
Что ни слово — опять поучение,
Ибо ведаешь ты, что становишься свят,
Что письмо — как Апостола чтение!..
Облегчения нет от такого письма,
Сердце чахнет и в горечи варится.
Одиночество жжет. Опускает тюрьма
Навсегда свою кровлю над старицей.
В Пустозерске ж глухом дымовые столбы
Поднялися в весеннем безветрии…
Не ушел протопоп от высокой судьбы,
Вознесен на пылающий жертвенник!
Зашипело смолье, и в рассветную рань,
Сквозь огонь, в дымовые отверстия —
То лицо, то брада, то воздетая длань,
Исповедующая двухперстие.
Харбин, 1938-1939
КАК ОНИ ПОЛАДИЛИ
(Сказка о том, как Миша Топтыгин с лесником
поссорился и как умная лиса помирила их) [344]
У дороги лесной, у дуба,
Где звенел ручеек-родник,
Где от зноя укрыться любо,
Жил в избушке седой лесник.
В той избушке лишь стол да лавка,
Поглядишь — обстановка вся…
Есть товарищ у деда — Шавка:
Без собаки в лесу нельзя!
Есть ружье, самопал тяжелый,
Есть капкан и для птиц силки.
За избушкой в колодах — пчелы,
Целый день их жужжат полки.
Разомлело над лесом лето —
Уж июню пришел конец.
Просыпается дед до света,
Лишь зари заблестит венец.
Поглядит на траву, на небо, —
Не послал бы Господь дождя, —
Пожует на дорогу хлеба
И ружье заберет с гвоздя.
Читать дальше