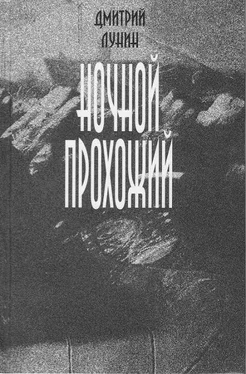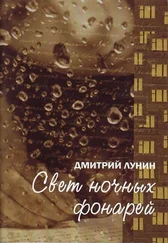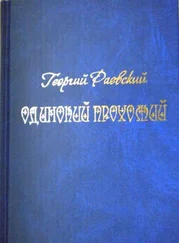Аморфностью существованья
не мерь по себе одежд,
но, знаешь, ты — только правило,
не думай о том всерьез.
Из сердца уносится ветром
пепел сгоревших надежд,
но достигает асфальта
пеплом от папирос.
Со стен на меня взирает
листов амальгамных рать,
я вижу себя чуть реже, чем хороню друзей.
Каждый свой сделал выбор,
я предпочел избрать
мое одиночество — вызов
порядку людских вещей.
Мое одиночество — выбор,
по какой из дорог идти.
Сегодня восточный ветер.
Грозы назревает бунт.
Душа улетает как стая
голодных и хищных птиц,
Но чувство не покидает,
что вскоре за мной придут.
Пойми, мы не будем вместе,
ведь ты — отщепенка стай,
я — выкормыш дикой хищницы,
воспитанницы дорог!
Скорей возвращайся в свой светлый,
единственно мыслимый рай,
а я и не числюсь даже
в реестре земных богов.
Попадешься когда в капкан,
огрызай себе лапу —
и жив.
Пусть тот, кто шакал по натуре своей,
подыхать остается в капкане.
Вспомни, что, будучи Homo sapiens,
ты ножи
всегда при себе имел
и носил на удачу камень.
Удача!
Теперь ты о ней позаботиться
должен сам, —
в нашем лесу чужаков полно,
они таскают с собой карабины.
Остерегайся во время полуночи выть, —
те, кто не берегли голоса,
были застрелены,
что даже у чужаков считается подлым, —
в спину.
Здесь настоящих по крови волков полно,
но раз ты оборотень, ты — изгой.
Они тебя ближе, чем на две тысячи лап,
не подпустят к своим
и, конечно, не примут в стаю.
Молодым в одиночку никак не выжить,
так что лучше держись со мной,
Я несколько лет не общался ни с кем,
а вот встретил тебя,
поговорить бы о чем,
но, как назло, голова пустая…
Через год-другой
ты и сам привыкать ко всему начнешь,
в том числе к тому, что ты — одинок,
Я стар и довольно ослаблен,
все время горькой давлюсь слюной,
не уверен, что дотяну до лета.
А пока я тебя научу добывать прокорм,
болезни лечить травой
и надежно маскировать места своего ночлега.
Не вспоминай о прошлом.
Твоего прошлого больше с тобой нет.
Этим ты только расстроишь нервы
и начнешь походить
на старую и ворчливую суку.
Но если тебя обложат,
направив в тебя свой фонарный свет,
то вцепись в того, кто в твое тело целится
и за секунду до смерти своей,
отгрызи ему к черту руку.
К тебе одному
чередою обрывочных фраз полки
вползали степенно,
как свет через плотные шторы окон,
в надежде рассеять потемки комнат,
как пламени языки
нарочно запаленной свечки.
Твой мир темнотою скован
настолько, что слушаешь речи
и знаешь — они пусты,
ты слишком устал вникать
в чужеродность нелепых звуков.
Теперь ты уже история,
взирающая с высоты
на суету и ажиотаж
еще не зарытых трупов,
которым присущи энергия,
тело, черты лица,
они считаются разными,
хотя все как один похожи…
Они до сих пор гордятся округлостью колеса,
и научились счастье
иглою вводить под кожу.
Ты между белым и черным
всегда выбирал зеро,
чуть захотел возвыситься —
уже обрастаешь цветом…
Со скрипом несмазанной двери
скользит по листу перо,
ты можешь считать это все письмом,
только я не тороплю с ответом.
Ты дня проходящего суету
глотала, как воздух, ртом,
но к вечеру вновь забывала, где
покоя очерчен край.
Претило тебе одиночество, но
ты запирала дом
и отправлялась на тесную кухню
проглатывать горький чай.
Ты направляла свой чуткий слух
в предутреннюю тишину,
но что ты способна расслышать в ней?
Стихия твоя — печаль…
В последний свой вечер, идя курить,
ты подошла к окну,
но город горящими окнами зло
и вычурно бросил «прощай».
Я образ твой выдумал вместо сна,
теперь он — всего лишь знак.
Обрывочных мыслей моих тщета
уснуть не дает порой…
Где ты теперь — не хочу гадать.
Будь счастлива там,
но знай:
сквозь ровные буквы
на белом листе
твоя проступает кровь!
Не требую даже сдачи,
хотя за грехи плачу,
еще не забыл, как плачут
навзрыд на похоронах.
Помню хмельные убожества
тихих жилых лачуг,
стараюсь привыкнуть к мысли,
что дело мое — сторона.
Сколько лет мною прожито
среди червивых стен —
пробовал сосчитать,
да со счета сбиваюсь вмиг.
Чувствовал прикосновения
мертвых чужих костей.
Кажется, будто у каждого
есть на земле двойник.
Я пропускал в свои легкие
терпкий табачный дым,
Верил во все, что заранее
обречено на провал.
Родину звал не иначе,
как горестный «Третий Рим».
Лучшей ночлежкой нередко
считал для себя подвал.
Кровью порезанных вен
багроветь заставлял бинты.
Если несло вперед —
я упрямо смотрел назад.
Я ничего не создал,
но часто сжигал мосты.
Видел, как плавились звезды
или грубел закат.
Читать дальше