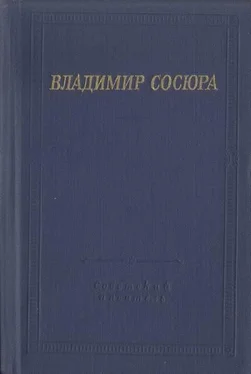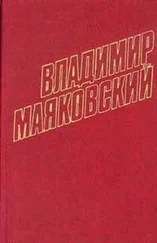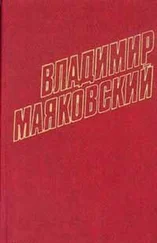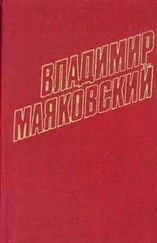И не видна еще развязка
была в те дни… Дрожит перо…
И заливает щеки краска,
как арестантское тавро.
Наш полк отправили под Киев,
туда, где шлях лежал Батыев,
где пела память о былом
в Софийском звоне золотом,
где княжескими именами
еще минувшее живет
и огражденные цепями
руины Золотых ворот
в немолчном городском прибое
напоминают нам былое.
Течет внизу старик Славута,
в веселье берегов закутан,
и на Крещатике в ночи
сверкают ярких ламп мечи.
Военный шум, зима, вокзал…
Тревога сердце захлестнула…
На нас своих орудий дула
наводит красный «Арсенал».
Томит дыхание беды,
мы стали строиться в ряды,
ударил колокол три раза,
мрачнея, ждали мы приказа.
Петлюра что-то прокричал,
куда-то показал рукою…
Над нами жесткою грозою
ударил орудийный залп…
Пошли на приступ, напрямик,
мы улицею голубою,
и ветер гайдамацкий шлык
всё дергал за моей спиною,
хотел как будто удержать
меня и злую нашу рать,
как будто вслед кричал: «Проклятый,
зачем ты в бой идешь на брата?..»
Недолго Киев нашим был.
Нас Днепр, казалось, невзлюбил,
в снега глубокие закутан,
разгневался старик Славута
и закричал сквозь смерти свист:
«Я тоже нынче коммунист,
а вы погибнете, изгои!»
И мы не выдержали боя.
И красным стал от крови лед,
казалось, небо упадет,
так орудийный гром был страшен,
залп по рядам пришелся нашим…
Кто как, ползком, бегом, верхом,
ушли рассеянной оравой…
В дали туманной за холмом
остался Киев златоглавый.
Обречены на грязь и мрак,
знать, не про нас его панели.
И слезы смахивал казак
тяжелым рукавом шинели.
Сквозь снег и ветер, день и ночь
отчизна нас погнала прочь.
И вещие нам были знаки,
в пути нам выли вслед собаки,
и кто-то на смех иль печаль
тревожил выстрелами даль.
Куда-то шли, за строем строй,
полк за полком, не зная цели,
из окон сумрачно смотрели
на флаг наш желто-голубой.
Качали бабы головами,
за тыном кто-то, хоронясь,
нас крыл последними словами;
дорожную месили грязь…
Под шум шагов, под окрик громкий
я молча вспоминал завод
и над мерцаньем тихих вод
взор ясный заводской девчонки.
Я ночью в нем тонул, бездонном,
с ним просыпался поутру.
Я был пушинкой на ветру
широком, революционном.
И, в непроглядной темноте
припомнив вдруг свою подружку,
я думал: что, как очи те
уже берут меня на мушку
и я, споткнувшись на бегу,
лежать останусь на снегу?!
Гудели ветры, неба мгла
казалась беспросветно-черной,
когда к нам армия Эйхгорна
на помощь с запада пришла.
Гудели ветры, в поздний час
сползала с неба позолота,
и шагом кованым пехота
гремела молча мимо нас.
Ряды терялись в мутной дали,
под ветром шли и шли полки.
«Завоеватели, друзья ли?» —
понять пытались казаки.
А им в ответ — из тьмы ночной
за рядом ряд, за строем строй,
и ветер, жалуясь открыто,
шумел знаменами сердито.
Топча траву родной земли,
и чернозем ее, и глину,
с полками кайзера прошли,
как смерч, мы через Украину.
Очнулся я, когда, назад
взглянув, увидел, как лежат
с простреленными головами
те, кто был в плен захвачен нами;
когда рассеялся туман,
увидел гневными глазами,
как забивают шомполами
за землю панскую селян.
И понял я, что только с теми,
кто защищать крестьян готов,
мне по пути, что давит бремя
неправых дел, неправых слов,
я осознал — настало время, —
что правда — у большевиков.
И верил я: придет минута,
когда я кровью смыть смогу
свою вину и штык свой, круто
взметнув, нацелить в грудь врагу.
А в нашей сотне был хорунжий,
приятель мой, детина дюжий,
похожий, прям и чернобров,
на запорожских казаков,
в атаку шел с особым форсом,
заворожен от пуль и ран,
на нем нарядный был жупан,
носил он шапку с длинным ворсом,
хохол извилистой гадюкой
свисал кокетливо над ухом.
Была в нем нежность и отвага,
ходил всегда спокойным шагом,
гроза врагам и супостат,
он был усладой для девчат.
Всегда готов к любому бою,
его прозвали Галайдою.
Такого пуля не берет,
он от Мазепы вел свой род
и тем гордился. Словно черти,
с картины Репина украв
его, напуганы до смерти,
влюбились в речь его и нрав.
Однажды к нам через кордон
подкрался красный батальон,
он появился в час нежданный
сплошною лавою из тьмы,
когда ж его разбили мы
и тишина над нашим станом
сомкнулась звездная, — тогда
привел шесть пленных Галайда.
Они с померкшими очами
стояли молча перед нами,
и на меня один из них
смотрел так странно… Что-то было
в его очах… я вдруг притих,
передо мною всё поплыло,
какой-то свет из дней былых…
Где я их видеть раньше мог?
Прошел по телу холодок.
Сияли очи, словно свечи,
будили боль забытых ран…
Знакомыми казались плечи
и руки девичьи, и стан
у пленника… И отсвет зябкий
на острый штык тоскливо лег,
но под красноармейской шапкой
я разглядеть лицо не мог.
И долго, долго среди ночи
мне спать мешали эти очи.
Рассветный блеск мерцал вдали,
когда их на расстрел вели,
в последний раз ласкали взглядом
рассветный мир, сиявший рядом,
и солнце тьмы прорвало гать,
когда их стали раздевать.
А самый юный не давался,
как был ни слаб он, как ни мал,
из рук казачьих вырывался,
руками ноги прикрывал…
Но скоро сила одолела —
и перед нами забелело
невинное девичье тело.
Когда ж лицо ее в слезах
увидел я… тоску и страх
те вспоминать не перестану…
Я в ней узнал свою Оксану,
свою любовь!.. Хватался я
за чей-то штык, за ствол ружья
и плакал перед Галайдою,
чтоб отпустил ее живою,
чтоб понял боль мою, беду.
Просили хлопцы Галайду,
но с каменным, угрюмым ликом
он глух был к жалобам и крикам.
Он говорил, и даже брови
казались красными от крови,
стал нос крючком, как у совы:
«Не казаки, а нюни вы!
Наш путь лежит сквозь темень ночи,
сквозь кровь и смерть, неужто нас
разжалобят девичьи очи,
иль в нас казачий дух погас?
А ты, — сказал он мне с угрозой, —
сдержи безумие и слезы
и не мешай мне исполнять
то, что велит отчизна-мать!»
Я и сегодня вижу снова,
как ружья вскинули сурово
и, как один, взглянули все
туда, где жизнь моя, Оксана…
Сияла мушка, вся в росе,
на карабине атамана,
и это значило — конец…
Стоял я, бледен как мертвец.
Казалось, сердце разорвется…
Раздался залп, упало солнце,
земля качнулась, поплыла…
И долго, долго тьма была.