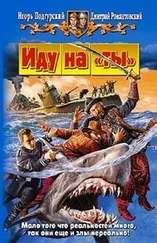Сквозь сентябрьский
сухой
блеск
из автобуса,
пропахшего грибами,
я вхожу
осторожно
в лес,
он раскачивает небо стволами,
он ветвями
синеву переплел
и, торжественный, пылает в росе.
Слышу шепот:
— Хорошо, что ты пришел,
ходят все ко мне,
а любят не все.
Тычет пальцами зелеными лес
в жесть консервную и клочья газет.
Ухожу я от этих мест,
и уже чего-то светлого нет.
Я хочу заблудиться
в лесу,
перелиться в него,
как роса.
Полдень выползет
огнен и сух,
и погибнет роса,
но не вся —
под листом
притаилась в тени…
Эта дольше других проживет.
Я руками
раздвигаю огни
и вступаю в хоровод,
в хоровод.
И кружу
по тропинкам дождей
мимо рыжих
смолистых
грив
все быстрей,
и быстрей,
и быстрей.
И во мху замечаю гриб.
Меркнет
строгая
красок игра
и, тревожною прелью дыша,
откровением сентября
раскрывается
леса душа.
Там —
в зеленой душе его —
груздь.
Или это студеная грусть?
И опять
по тропинкам дождей
я на светлых полянах кружу,
спотыкаюсь о лысины пней.
Будьте счастливы,
пни,
ухожу!
У дороги толпятся дубы.
Полдень выжег на листьях росу.
— Ах, постойте,
какие грибы!
Где вы столько набрали?
— В лесу.
Далеко где-то кличут петухи.
Сквозь заросли лучей,
сквозь сумрак сонный
я в бор вхожу —
вхожу в свои стихи —
в бездумные
размашистые
сосны.
Звенит и стынет над водою бор.
Звенит и стонет,
к солнцу улетая!
Я понимаю,
сосны,
вашу боль,
своей живою болью понимаю…
Вам вечно напрягаться и звенеть,
но никуда вам от нее не деться,
не оторваться
и не улететь.
Такая боль бывает у младенцев.
Они изводят и врача, и мать,
они кричат, они ночами мокнут,
а где болит —
не могут рассказать.
А почему болит —
сказать не могут.
«Я почувствовал за спиною»…
Я почувствовал за спиною
что-то большое и теплое.
Я оглянулся —
вставало солнце!
Летели красные птицы.
Мы костер затоптали
и затопали
в разные стороны,
в сосны.
Из орешника вылетели
узенькие ладошки.
Я подбежал и спросил:
— Девушка,
вы не видели,
здесь дождик не проходил?
— Проходил!..
Куропатка
взметнулась от нашего хохота,
чадя,
как ракета,
хвостом.
Потянуло грибами,
холодом,
хвоей,
папоротником,
хвощом.
Задымили поляны,
заскрипели дубы,
торчащие мельницами из тумана.
А под ними грибы…
Тронешь ветку рукою —
дрожь!
В каждой ветке —
холодный душ.
— Посмотрите, какой боровик!
Ветры в чащу погнали эхо.
И лес удивился:
— Посмотрите,
какой боровик!
Я на миг испугался,
что все это пропадет.
Я шел, и смеялся,
и орал:
— Посмотрите,
какой подосиновик!
«Распахиваю дверь и замираю»…
Распахиваю дверь и замираю:
лежит
распахнут
мир передо мной.
— Постой!
Куда ты? —
Дверью обрубаю
твою любовь и сонный голос твой.
Все это юность.
Это все она,
непримиримая
к минутной фальши.
— Люблю,—
фальшивит кто-то у окна.
Зарядка началась —
фальшивят марши.
Фальшиво улыбается с афиш
лицо великолепного артиста.
Фальшивит Клиберн?!
— Эй, куда летишь,
фальшиво гаркают мотоциклисты.
Нет, люди здесь не виноваты,
нет!
И даже утро —
нет, не виновато.
Туда, где сосны,
где вода и свет
иду,
бегу
от сонного «куда ты?»
— Куда ты, стой! —
навстречу друг идет.
Рассказываю —
слушает,
хохочет
и говорит,
что все это пройдет.
А что пройдет,
мне говорить не хочет.
Все слишком хорошо.
Я этого боюсь.
Все слишком хорошо.
Так в жизни не бывает.
На мотоцикле
за автобусом
плетусь.
Не вскакиваю на ходу в трамваи.
Все слишком хорошо.
…Вот-вот сорвется капля —
вдруг каплю обошел.
Ах, это же не камень!
Да, я иду
к любимой
на свидание.
Хочу и не решаюсь
побежать,
как бы по ниточке иду,
светящийся,
чтобы себя не расплескать,
не расплескать.
Все слишком хорошо…
Я это оценил!
Вот стриж
воздух
стрижет.
Вот жерех
воду
разбил.
Через месяц
здесь
шел!
Вдруг вспомнил —
я привык,
что все хорошо.
И вмиг —
холодок
как будто вода —
в семь часов утра
за воротом!
Скоро вздрогну.
Крикну: — Да!
Телефон
прокаркает
вороном.
Читать дальше