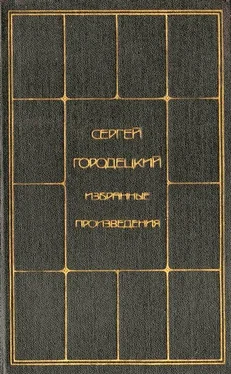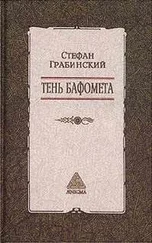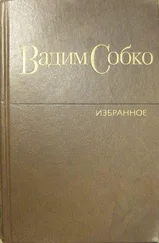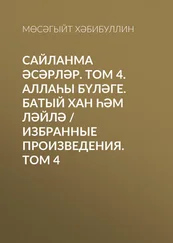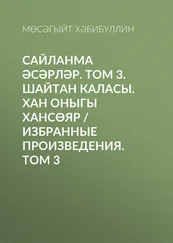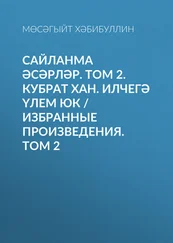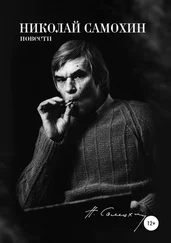1 сентября 1906
Качай меня, баюкай, хмель,
Бери свое.
Иду во мхи, где высит ель
Густое острие.
Крива тропа, нависнул лес,
Дымится пар.
Навстречу мне зеленый бес,
Уныл, сонлив и стар.
— Ну, как у вас? Ты что? Живой?
— Да вот, живу.
— А ты? — А я мастеровой,
Иду туда, ко рву.
— Неладно там. Желты пески,
Ползут с краев.
Сидят, молчат таки-сяки,
Скучней замокших сов.
— А сам-то как? — И сам сова,
Труха трухой.
Гниет во мху, все трын-трава,
Лишь был бы хвост сухой.
— Беда совсем. А нет ли, брат,
Еще вестей?
— Нагнись-ка. Завтра, говорят,
За гатью сходка всех чертей.
20 сентября 1906
На далеких на полянах,
Под вечерними цветами,
С почернелыми устами,
Изнывая в свежих ранах,
Принагнулася Горюнья,
Горя лютого пестунья.
«Кто мне телушко изранил,
Кто мне душу замутил,
Кто утробу задурманил,
Чудо-Юдо зародил?
Там, во мне самой, Горюнье,
Сердце Юдо шевелит,
Алой кровушке-игрунье
Путь плотинами прудит.
Как у этого у Юда
Пребольшая голова,
Юдо в матери покуда,
У Горюньи горя два:
Как и первое мученье —
Разродиться от плода.
А второе замышленье —
Первой горшая беда.
Надо семени отцову,
Зародившему во мне,
Отомстить ему по-нову
На воде или в огне.
Помогите мне, козявы,
Неулыбы, червяки!
Протяните, злые травы,
Ваши руки из реки!
Как вошел он, подступился,
Не узнала до сих пор.
Со стыдом моим случился
Не жених, а серый вор».
На далеких на полянах,
Под вечерними цветами,
С почернелыми устами,
Замышляет, мучась в ранах,
Принагнулася Горюнья,
Горя лютого пестунья.
А на небе пожелтелом
Пышет зраком угорелым,
Оттопыривши губу,
Смотрит на землю, покуда
Сын утробный, Чудо-Юдо,
Мечет мать свою в знобу.
Декабрь 1906
Бежит зверье, бежал бы бор,
Да крепко врос, закоренел.
А Юдо мчит и мечет взор
И сыплет крик острее стрел:
«Я есть хочу, я пить хочу!
Где мать моя? Я мать ищу.
Лесам, зверям свищу, кричу,
В лесах, полях скачу, рыщу.
Те клочья там ужели мать?
А грудь ее, цвет ал сосец?
К губам прижать, десной сосать…
Пропал сосун, грудной малец!
Ах, елка-ель, согнись в ветвях,
Склонись ко мне, не ты ль несешь
Молочный сок в суках-сучках,
Не ты ль меня вспоишь-спасешь?
Ты, липа-цвет, своей рукой
Прижми меня к груди своей!
Я пить хочу, весь рот сухой,
Теки млекóм, сочись скорей!
Береза-мать, напой, укрой!
Ты так бела, как тело — ты,
Исколот рот, измят корой,
И жилы все сухи, пусты».
«Ну на, соси». И клонит ствол.
И сок течет. И Юдо жив.
Сосет и пьет. Вот день ушел.
И сеет ночь по черни нив.
И ночь ушла. Вот день опять,
Листва шуршит и кроет мох.
И ночь и день. Пора отстать.
Уж голый ствол истек, заглох.
Сорвался лес, стремглав бежит,
И взрытый луг глушит бурьян.
А Юдо мчит, в пустырь кричит:
«Я сыт теперь, я сыт и пьян!»
Февраль 1907
Упился березовым соком,
Уселся на троне высоком
Из желтых костей.
«Ведите сюда, подводите,
Калите железные нити
Огня золотей».
И всяких к ступеням престола
Подводят раздетых догола,
Со смертью в глазах.
Иного раздуло горою,
Толстел, за конторкою стоя,
В бумажных рублях.
Другой, словно волк отощалый,
Шататься, проситься усталый
По задним дворам.
И тут же продажное тело,
Избитое плеткой умело —
Отрава векам.
Тела за телами мелькают,
Владыка очей не спускает
И машет рукой.
И нижет на прут раскаленный
Палач, наготой распаленный,
Спину за спиной.
Сверкают владычные взоры
На крики измученной своры
Доживших людей.
И плещут железные нити:
«Ведите еще, возводите
На трон из костей!»
1906
Как высоко, как далёко
Купалóкала живет,
Награжденья раздает.
И куда ни глянет око,
Тени темные идут,
Свитки длинные несут.
Кто убил дитя во чреве,
Получает малый знак.
Семь детей — вот это так.
Кто повесился на древе,
Получает за двоих.
Кто повесил семерых —
Получает полухвостье.
Выжег город — три хвоста,
Ход до Адова моста.
Пропускается в Замостье,
Кто в неделю навалил
Тридцать девичьих могил.
Читать дальше