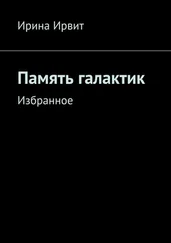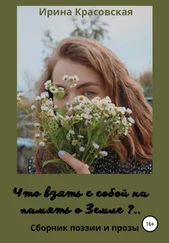Вот повод для так долго ждавшей пули,
вот повод для цветов, так долго ждавших,
вот повод
Газе с Яффой переспать.
Вот повод для отчизны распродать
все весла с палубы гнилого судна…
Все поводы грязны, но неподсудны.
Он в темноте, как крылья ветра.
Льется кровь.
Слово смутно, слово щедро.
В нем любовь.
Колокольчики надежды
на руке…
Во тьме, на стене мрака отпечаток ладони.
«Грянул выстрел, плюнул свинцом…»
Грянул выстрел, плюнул свинцом.
Он упал.
Обнимая землю, беременную концом.
А шаги убийцы заглушила граница.
И вновь вернулся кровоточащий вопрос.
Послушайте меня!
Послушай ты, отчизна!
Оковы осени на всех открытьях дня.
Хотел бы сжечь я тень моей нелегкой жизни,
чтоб в полдень не разнежиться в тени.
Тише! Умерьте труд бравурных трубных трелей.
Я – мышь летучая на дереве качелей,
а у причастья – золотой телец.
Молчи! Пусть знамя вознесет творец
и молнии, и бури потайной,
раскроются объятия креста
и сердце разомкнут мне, и уста.
И пусть на крыльях ветреных, случайных
летят туда, где есть одно окно,
оно не крашено, черно от молний
окно на Родине – оно черно.
Окно, которое меня, наверно, помнит.
Там есть лоза, обвиться вкруг меня
мечтающая. Мне мечтать о том же…
О, Родина! Скажи, дождусь ли дня,
когда с ладоней ты своих напоишь
меня глотком грозы и зельем туч?
Собрать бы реки все в застольный кубок;
я захлебнусь, я выплесну себя
в горнило солнца!
Хочу кричать, а кто-то вслед смеется.
На стене моей бессонной ночи
я нарисовал любимый голос
и лилейный ненаглядный облик,
видимый с крутой равнины моря
на песке в бессоннице сумбурной, —
лунный всадник догонял меня.
Я нарисовал любимый голос,
прошептал лелеемое имя…
Словно ветра розовый бутончик
засветился для меня в геенне
одиночества пустынной ночи.
Для того, кто будет после меня, Палестина – женщина,
а мне – только жертвы завещаны!
Когда постигает меня горячка, я лечусь кровью.
Кровь – недуг, от которого не лечат любовью.
Для того, кто будет после меня, небо – женщина.
А для меня – это обитель пророков.
Ах, каким сладким станет оно,
когда прогонят пророков с его порогов.
О, Палестина – воров и соглядатаев мать —
куда от чаши твоей бежать?
Любого, кто тебе протянул гроздь,
в винном склепе пытают, в руку вбит ржавый гвоздь.
Испей же хоть раз чашу мою.
Я всю жизнь твою чашу пью.
Я вручаю верительные грамоты чрезвычайного посла принцессы «Син» во дворце королевы «Джим» [1]
Моя государыня! Я утратил цель.
Выслушайте, чтобы не верить слухам:
в аэропорту у меня конфисковали газель
со вспоротым брюхом.
А газель эта самая
была моей верительной грамотой —
конфискованная, зарезанная газель.
Послушайте, внемлите моей мольбе,
каков заговор, представьте себе?!
«Кит – он спрятал Иону во чреве…»
Кит —
он спрятал Иону во чреве.
Кит защитил Иону.
А мы здесь – в этом безграничном отечестве, —
в страхе и гневе,
в этом мире бескрайнем, словно в море бездонном,
все еще верим в собственного кита
или заняты сбором фигового листа, и все – суета.
«Признаюсь – я очевидец того, что свершилось уже…»
Признаюсь —
я очевидец того, что свершилось уже,
мое прежнее лицо газетами вылеплено, как папье-маше,
признаюсь —
из фаянса лицо мое новое было,
я упал, и вдребезги
земля лицо мне разбила.
«Моя государыня! Примите или отвергните…»
Моя государыня! Примите или отвергните
моей верительной грамоты фиговый лист.
Я жду, когда вы не ответите…
Я не слишком грязен и не слишком чист,
у меня, стеклом залатавшего плаща пелену,
у меня, разукрасившего мозаикой шлем,
у меня, пристрастившегося к дурному вину
в барах, доступных всем,
у меня голова закружилась.
Моя государыня! Примите или отвергните
моей верительной грамоты фиговый лист —
просто у ворот дворца
я выпустил пулю
из дула своей винтовки,
я выстрелил в этот, моими стихами исписанный лист,
я прострелил себе руку и сердце.
А когда, моя государыня, поэт становится кротким
и на его стихи нельзя опереться
голове бунтаря,
схваченного неумолимым клыком и когтем,
стоит ли жизнь спасать
поэту, житие не способному описать?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу