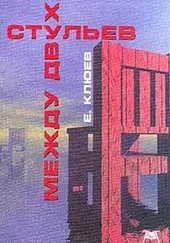Ты не любишь стихов – никогда не любил, не знал,
не заучивал, не повторял, не носил у сердца.
Ты не ведаешь, что здесь делает полный зал —
и зачем ты к нему, самозванец, лицом уселся.
Присягаю: прошло, забыто, простите все,
это кто-то другой нагулял по другим дорогам,
ибо нынешний кружится белкою в колесе
и не помнит того языка, на котором – с Богом.
Я не слышу вас, я вас не слышу: плохая связь —
или руки дрожат, или пальцы уже не держат,
а веревочка тонкая, между эпох змеясь,
издает вдруг ужасный… но, в общем, понятный скрежет.
Впрочем, тень не скрежещет, о чём я, Господь со мной,
и с тобой, и со всеми, кто ловит далёкий отзвук
или отблеск далёкий – отчаянный позывной
для особо нервозных! Хоть это не для нервозных.
Потому что мы знаем: не будет других разов —
вострубил уже ангел последний, у Иоанна
больше ангелов нет – и никто не пришёл на зов,
и прокисло вино за кормой второго стакана.
«Хоровод красавчиков и страшил…»
Хоровод красавчиков и страшил,
безмятежные небеса…
Вот и век, не заметив меня, прошёл,
вот и новый век начался.
Тот был век-полигон, а каков-то – сей?
Улыбается Божество:
он пока никаков, он пока музей
экспонатов века того.
Он пока никаков, он пока альбом
с фотографиями родни:
малыша с крутым, в завитушках, лбом —
зачинателя всей резни,
малыша с усищами, в чьих зрачках
чёрный ворон и чёрный холм,
малыша – ничком, в роговых очках,
малыша – на бомбе верхом…
Всюду матушки, тётушки и дядья
пьют чаи, говорят о душе —
там никак не мог оказаться я,
да и поздно было уже:
день к концу подходил, был притушен свет
и не вёл никуда след…
А к тому же меня никогда нет.
Да меня и теперь нет.
Раньше я не знал, что каждый – каждый! – может умереть.
Но однажды Вы сказали: «Каждый может умереть».
И теперь я точно знаю: это может каждый встречный,
каждый встречный-поперечный – каждый может умереть.
Мы играли на рояле каждый может умереть,
мы на скрипочке играли каждый может умереть,
мы играли на свирели, на свирели, на спирали,
а потом на нонпарели каждый может умереть.
Даже каждый автогонщик тоже может умереть,
даже каждый автогенщик тоже может умереть,
даже каждый полицейский, даже каждый милицейский,
даже каждый медицинский тоже может умереть.
Мы писали на консоли каждый может умереть,
мы писали на скрижали каждый может умереть,
мы писали на скрижали, на медали, на фланели…
Но из дальней нашей дали не звонили две недели.
Вышло так, как Вы сказали: каждый может умереть.
1
Самое светлое в мире занятие – наряжать ёлку,
приурочив событье к субботе… нет, к воскресенью,
чтобы действовать не торопясь, наряжать – долго,
наряжать серебром, наряжать янтарём, наряжать синью,
наряжать сапожком, наряжать туеском, наряжать сердцем,
наряжать стеклянною рыбою, бабочкою картонной,
наряжать жёлтой луковицей и пурпурным перцем,
и обматывать всё это дело весёлою паутиной,
а закончить – звездою, горящею, значит, над миром:
Мельхиору, как водится, Касперу и Бальтазару
чтоб, когда путешествуют с золотом, ладаном, мирром,
было, стало быть, празднично, их триединому взору…
вот и всё, и теперь уж осталось смотреть и смотреть в оба,
шля привет из окна всем подряд, но особенно – пешим:
заходите ко мне, у меня сапожок, туесок, рыба
и другое, чего я, клянусь вам, даже не вешал.
2
Самое тёмное в мире занятие – разряжать ёлку,
удаляя по очереди за надеждой надежду —
нарисованную по небу, написанную по шёлку,
молоком между строчками выведенную, и между —
между нами всё кончено, праздники миновали,
убирай их теперь по коробкам, обкладывай ватой
танцы-шманцы твои, тили-тили твои, трали-вали —
никогда не ходи по пятам за сердечною смутой,
за огнями, вчерашними днями, местами родными,
упакуй свои звёзды, и сферы, и ленты подальше:
слишком сильно блестят… да и вот уж явились за нами
люди, звери, орлы, крокодилы и их крокодильши —
прогонять нас отсюда, как псов, извините, бродячих,
мы навешали всякого лишнего, вы извините,
всё уже поснимали – осталась лишь пара сердечек
и дождя золотого отдельные, редкие, нити.
3
Самое тёмное в мире занятие – заряжать пушку
через произрастающий вверх металлический стебель,
стебель вечно пустой, потому-то он и нараспашку —
загружать, значит, всякую гибель и всякую убыль…
эту гибель и убыль везут на тяжёлых подводах,
до земли проседающих: прежние очарованья,
горький опыт, обиды – всё в мире стоит на обидах —
и напрасные слёзы, и страх, и усмешка кривая,
осторожность суждений, двусмысленность разговоров,
потаённые мысли во время ночных путешествий…
почему-то всё это у нас превращается в порох
и внезапно взрывается с силою сумасшедшей,
и потом молодые солдатики – райские пешки —
убивать начинают, а после – их убивают,
убивают теми же ядрами той же пушки,
теми же ядрами, которые не убывают.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу