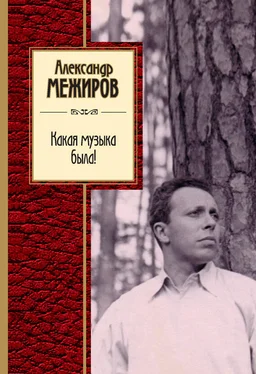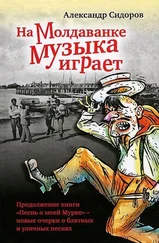На воде из общего колодца
И на молоке из-под козы
Мы варили кашу, как ведется, —
Все другое – если бы кабы.
Мы варили так, а не иначе,
Нечего над кашей слезы лить, —
Каша перестанет быть горячей,
Перестанет каша кашей быть.
Если вы заботитесь о соли,
Здесь и так немалый пересол.
Так что, mille pardon и very sorry,
Плачьте сами, ну а я пошел.
«В огромном доме, в городском июле…»
В огромном доме, в городском июле,
Варю картошку в маленькой кастрюле.
Кипит водопроводная вода, —
Июльская картошка молода, —
Один как перст,
Но для меня отверст
Мир
Накануне
Страшного
Суда.
На всех пространствах севера и юга
Превысил нормы лютый зной июля.
Такого не бывало никогда, —
Ах, Боже мой, какие холода…
Варю картошку в мире коммунальном,
Равно оригинальном и банальном.
Мудрей не стал, – но дожил до седин.
Не слишком стар, – давным давно один.
Не слишком стар, давным-давно не молод,
Цепами века недоперемолот.
Пятидесяти от роду годов,
Я жить готов и умереть готов.
Замри на островке спасенья
В резервной зоне,
Посреди
Проспекта —
И покорно жди,
Когда спадет поток движенья.
Вот мимо запертых ворот,
Всклокоченный и бледный некто,
По левой стороне проспекта
Как революция идет.
Вот женщина
Увлечена
Ногами длинными своими.
Своих прекрасных ног во имя
Идет по улице она.
Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня, —
Ты жила и не жила.
Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.
В Серпухове
на вокзале,
В очереди на такси:
– Не посадим, —
мне сказали, —
Не посадим,
не проси.
Мы начальников не возим.
Наш обычай не таков.
Ты пройдись-ка пёхом восемь
Километров до Данков…
А какой же я начальник,
И за что меня винить?
Не начальник я —
печальник,
Еду няню хоронить.
От безмерного страданья
Голова моя бела.
У меня такая няня,
Если б знали вы,
Была.
И жила большая сила
В няне маленькой моей.
Двух детей похоронила,
Потеряла двух мужей.
И судить ее не судим,
Что, с землей порвавши связь,
К присоветованным людям
Из деревни подалась.
Может быть, не в этом дело,
Может, в чем-нибудь другом?..
Все, что знала и умела,
Няня делала бегом.
Вот лежит она, не дышит,
Стужей лик покойный пышет,
Не зажег никто свечу.
При последней встрече с няней,
Вместо вздохов и стенаний,
Стиснул зубы – и молчу.
Не скажу о ней ни слова,
Потому что все слова —
Золотистая полόва,
Яровая полова́.
Сами вытащили сани,
Сами лошадь запрягли,
Гроб с холодным телом няни
На кладбище повезли.
Хмур могильщик. Возчик зол.
Маются от скуки оба.
Ковыляют возле гроба,
От сугроба до сугроба
Путь на кладбище тяжел.
Вдруг из ветхого сарая
На данковские снега,
Кувыркаясь и играя,
Выкатились два щенка.
Сразу с лиц слетела скука,
Не осталось ни следа.
– Все же выходила сука,
Да в такие холода…
И возникнул, вроде скрипок,
Неземной какой-то звук.
И подобие улыбок
Лица высветлило вдруг.
А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке
Спит Владимир Луговской,
Знаменитый скульптор Эрнст
Неизвестный
глину месит;
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит;
Не дает скучать Москве,
Не дает засохнуть глине.
По какой-то там из линий,
Слава богу, мы в родстве.
Он прервет свои исканья,
Когда я к нему приду,—
И могильную плиту
Няне вырубит из камня.
Ближе к Пасхе дождь заладит,
Снег сойдет, земля осядет —
Подмосковный чернозем.
По весенней глине свежей,
По дороге непроезжей,
Мы надгробье повезем.
Ну, так бей крылом, беда,
По моей веселой жизни —
И на ней
ясней
оттисни
Образ няни – навсегда.
Родина моя, Россия…
Няня… Дуня… Евдокия…
«Всего опасней – полузнанья…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу