Около мечети, возле дома Витте
вы меня поймайте и остановите.
Снова помотайте вы седою прядью
рядом с «Великаном» в этом Петрограде.
Что нам чай да сахар, «Мартовское» пиво,
то несправедливо, это справедливо.
Ничего на свете нам не удается,
только сигаретка нам и остается.
Черная «Аврора», розовая «Прима»,
и подруга Люда, и подруга Римма.
В вашей подворотне холодно и жутко,
лампочка в прихожей вроде промежутка
между темной ночью и, конечно, белой…
Поцелуй мне веки в той заледенелой
комнате печальной, в суете опальной,
в той кровати старой полутораспальной.
И скорей, скорее на Крестовский остров,
медлят над яхт-клубом десять флагов пестрых —
все они победы, все они удачи
выцвели, поблекли накануне сдачи.
И слились с твоею прядью седоватой,
чем-то знаменитой, маловиноватой.
Бессмертие — какая ерунда!
Нет выбора, вернее, нет ответа.
Все достоянье наше — череда
Бегущих лет, черед зимы и лета.
Я знал его. Мы странствовали с ним
Однажды по московским магазинам.
Нам абсолютно был необходим
Цвет голубой сорочек к темно-синим
В ту пору модным нашим пиджакам,
И, помнится, не отыскав предмета,
Не стали горевать по пустякам —
Нет выбора, вернее, нет ответа.
Я не успел с тобой поговорить,
Теперь уже поговорим толково.
Не станут нас сбивать и торопить,
Мы всякое обсудим трезво слово.
Как широка надземная Москва,
Встречая гостя из Москвы подземной,
Не надо ни родства, ни кумовства
Для полученья жизни равноценной.
Да, что там говорить — небесный град!
Теперь она особенно любима —
Ну что же, до свиданья, друг и брат,
Я опоздал, и ты проехал мимо.
На батумском рейде парусная яхта
борется с волной.
Я сюда заехал в новогодье как-то,
пил под выходной.
В окна морвокзала я глядел угрюмо,
дик и одинок —
где моя удача, где моя фортуна,
дом и огонек?
Что имел — развеял, что любил — профукал,
завернул в Батум,
будто в биллиардной от борта и в угол,
и в затылке шум.
Жены позабыли, дети осудили:
«Это не отец»,
только в Ленинграде в маленькой квартире
есть один ларец.
Там хранятся письма, и мои открытки,
и мои стихи.
Жизни не поправишь, я один в убытке,
небеса глухи.
Но подходит яхта к призрачному молу
и через туман
слышит, как на суше гонит радиолу
пьяный ресторан.
Доставай-ка фото из того конверта,
глянь на оборот.
В декабре в Батуме холода и ветра
мне невпроворот.
Ничего не знаю, никого не помню
и себя не жаль.
Только эту рюмку я еще наполню,
оболью хрусталь.
Бесконечная жизнь повилики,
Краснотала, репья, лопуха…
Мне достаточно и половинки,
Я не знаю такого греха
За собой, чтобы вновь не воскреснуть
После смерти блаженной весной,
Чтобы леса и луга окрестность
Обошлась без меня, а за мной
Не послала хоть облака или
Разогретого ветра набег,
Ведь растили меня и любили
Не затем, чтоб я сгинул навек.
Ввечеру пламенеет пространство,
На осине галчата галдят,
Где-то там на границе славянства
Угасает варяжский закат.
Засыпая на жаркой овчине,
Я внимаю, хоть слух огрубел,
голосам повелительным: «Сыне,
Ты вернулся, прими свой удел».
Стоя посреди Фонтанки
У державинских бесед,
Вижу гору провианта,
Дым табачный и кисет.
Наконец зима жестоко
Заменила хлябь на твердь.
Темнота идет с востока,
Тяжело туда смотреть.
А на западе в тумане
Солнце — клюквенный мазок.
Видно, дело к ночи, пане,
Надо распрягать возок.
Хорошо скрипят полозья
Вдоль ледовой пелены,
Только стал он что-то возле
Самой черной полыньи.
Желт ампир, и воздух матов,
Пахнет ссорой шутовской.
Не окликнет ли Шихматов,
Не пройдет ли Шаховской?
Арзамасец из Коломны
Уж кого не задирал?
Прячет в шубу нос холодный
Сухопутный адмирал.
Кроме этого пейзажа,
Что любить нам горячо?
Отвечайте Ося, Саша,
Яша, Миша — что еще?
Там, где мусорные баки цвета хаки
На Волхонке во дворе стоят в сторонке,
Обитает юный ворон, он проворен.
Он над баками витает и хватает
Апельсиновую дольку, хлеба корку,
А потом попьет из лужи и не тужит.
Он мрачнее, но прочнее человека,
Он-то знает, что прожить ему два века.
И увидит он большие перемены,
Непременно их увидит, непременно.
Читать дальше

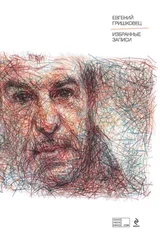

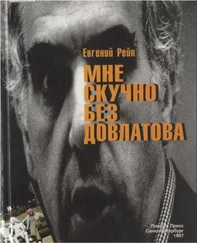
![Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/432154/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik-thumb.webp)






