Ты читаешь вполголоса,
Абажур светлокож.
Свет, пронзающий волосы,
На сиянье похож.
В этот вечер гадания
Все, что будет, сошлось,
И скрестилось заранее,
И пронзило насквозь.
Чем страшнее история
В старой книге твоей,
Тем яснее крестовая
Тень в проеме дверей.
То обиды и горести
Точно доски грубы…
Вот и свежие новости
С перекрестка судьбы.
Ты читаешь, не видишь их,
Так и быть — не гляди.
Все осилив и выдюжив,
Ты прижмешь их к груди.
БОРИС И ЛЕОНИД [6] Б. Слуцкий и Л. Мартынов.
В пятьдесят шестом на бульваре Тверском
я у них в гостях побывал,
и огромный арбуз на столе стоял
сахарист, надтреснут и ал.
Я читал им запальчивые стихи,
возмечтав о судьбе Рембо,
и внимательно за ними следил
в створки сдвинутые трюмо.
И один недовольно в усы ворчал,
а другой веселел зрачком.
Так я понял, что я их пронять не смог,
что явился я с пустяком.
Я, пожалуй, был симпатичен им,
но ведь ждали они не меня,
каждый час мог явиться другой поэт,
представляющий времена.
Потому для меня самый смачный кусок
из арбуза вырезан был,
и усатый десятку в прихожей мне
дружелюбной рукой вручил.
Дверь неплотно захлопнулась, и когда
я шагнул на ступеньку вниз:
— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?
— А из нас вышел толк, Борис?
Я десять лет играл в защите —
за школу, лагерь, институт.
Великодушно не взыщите,
я навсегда остался тут.
Я в парусиновых сандалях
и в бело-голубых трусах
витийствовал во всех скандалах,
у всех был притчей на устах.
Когда разгоряченный форвард
планировал к моим ногам,
я поворачивал, как ворот,
его затылком к облакам.
Я закрывал свои ворота,
бил кулаками вратаря.
Коль мы выигрывали что-то,
то только мне благодаря.
Я ждал измены и набега,
шемякина суда судьи,
как искалеченный калека,
я раны уважал свои.
Мне открывался центр защиты,
что от пустынь до хладных скал,
пусть наших бьют, мы будем квиты,
я никого не выпускал.
Я понимал, что там за мною
легла последняя черта,
и если я чего-то стою,
то только верностью щита.
Я был вершитель и зачинщик
того, что тут же шло на слом.
Не подходите — я защитник,
убийца, зверь и костолом.
ПАМЯТИ АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА
Одесский известняк, российский дуб мореный,
Кривой могучий клык из стали вороненой,
Приемник «Сателлит» на письменном столе.
Ты где, хозяин их? На этой ли земле
Среди библейских стоп слепого громовержца?
Быть может, поправим разрыв такого сердца?
Ты весла не возьмешь, не разовьешь веревку,
Не сносишь в полчаса заморскую обновку,
Не оглядишь картон, грунтованный искусно…
Что вспоминать, как быть?
На этом свете грустно
И пресно без тебя меж службой и крамолой.
Какой ты суп варил, грибной, родной, тяжелый!
На старой даче в Сестрорецке
среди террасок и аркад
сидит любовник постаревший
и курит, глядя на закат.
Помадою на «Беломоре»
распутничают небеса,
влетают мирные амуры,
перед хозяйкой лебезя.
Она глотает чай холодный
и щурит невеселый взор.
Туманный и высокородный
не задается разговор.
Все решено, и нет возврата
на день — не то что на года.
Давно оплачена растрата,
давно окончена страда.
Но жизнь оставила им что-то:
осадка темного глоток,
мотив избитый на три счета,
увязший в прошлом коготок.
Не много. Хватит иль не хватит,
когда судьба сойдет на нет,
когда их заживо окатит
заката поминальный свет?
Чего же ты хочешь, товарищ, норд-вест?
А. Ахматова
Глядя из Пириты на затихающий рейд,
думаешь: «Боже мой, что за навязчивый бред?
С этого камня следить за родной стороной,
вечной, беспечной, еще молодой стариной?»
Линзы подстрою и снова увижу я, как
пестрый и свежий норд-вестом полощется флаг,
шестидесятые там на причале стоят,
вести и музыка головы смутно томят.
Молодость — дикий подросток в румяном бреду,
здесь на причале на досках тебя я найду,
в робе брезентовой, в клешах зауженных грянь,
и стопроцентною дурью налей меня всклянь.
С кем ты сражаешься в серой ночной темноте?
Как отражаешься в быстрой огнистой воде?
Яхты, и танкеры, и городские огни,
в сумрачном парке мы вечно, беспечно одни.
Вечно, томительно музыка бьется в виски,
медленно, длительно ост наметает пески,
глянь с этой пристани — время уходит на дно,
и серебристые призраки с ним заодно…
Что ты здесь ждешь? Этот пропуск пропал навсегда,
больше до смерти уже не вернуться сюда.
Только над Олевисте свет пробивает туман,
вечная молодость падает прямо в карман.
Вечная девочка чиркает спичкой впотьмах,
бледный огонь зажигается в старых домах.
Маятник ходит за тридевять лет по дуге,
шрам и пушок проступают на нежной щеке.
Сладкие десны елозят по грубым губам,
слезы несносны, пора попрощаться и нам.
Девичьи руки, где винные пятна горчат,
вверх переводят и вниз опускают рычаг.
Вот и моторка выходит на пасмурный рейд…
Девка, чертовка, открой на прощанье секрет.
Что ты ни скажешь, я все же дойду до конца,
я проиграю, но не отверну я лица.
Вижу, последний над рейдом прожектор скользит,
кто безответный ответит за весь реквизит?
Выше и выше все глуше и дальше назад…
Крыши темнеют, а души горят и горят.
Читать дальше

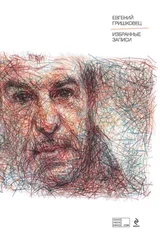

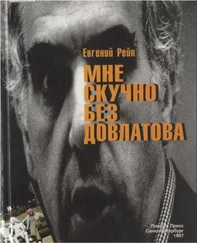
![Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/432154/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik-thumb.webp)






