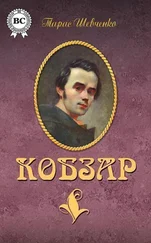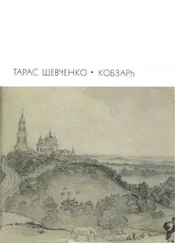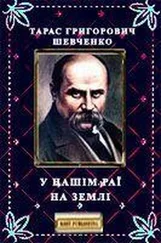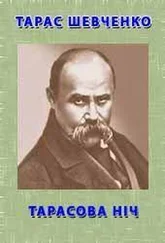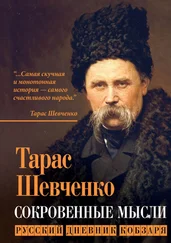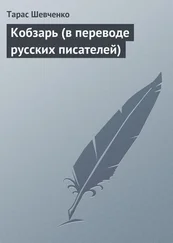не сляжет, коль ворон беду предречет.
Заснет долина. На калине
к утру соловушка заснет,
повеет ветер по долине,
и эхо по лесу пойдет.
Гуляет эхо — Божье слово...
Бедняги примутся за труд.
Стада потянутся в дубровы,
дивчата по воду пойдут.
И солнце глянет — краше рая,
смеется верба — свет зари,
злодей опомнится, рыдая.
Так было прежде... Но смотри:
солнце греет, ветер веет
с поля на долину;
воду тронет, вербу клонит,
сгибает калину;
на калине одиноким
гнездышком играет.
Где соловушка сокрылся?
Да где ж он? Кто знает.
Недавно, недавно над всей Украиной
старик Котляревский вот так распевал;
замолк он, бедняга, сиротами кинул
и горы и море, где прежде витал;
где ватагу твой бродяга
водил за собою,
все осталось, все тоскует,
как руины Трои.
Все тоскует. Только слава
солнцем засияла.
Жив кобзарь — его навеки
слава увенчала.
Будешь ты владеть сердцами,
пока живы люди;
пока солнце не померкнет,
тебя не забудем!
Ты душа святая! Речь сердца простого,
речь чистого сердца приветливо встреть!
В сиротстве не брось, как ты бросил дубровы,
промолви мне вновь хоть единое слово,
Вернись, чтобы снова о родине петь.
Пускай улыбнется душа на чужбине,
хоть раз улыбнется, увидев, как ты
с единственным словом приносишь и ныне
казацкую славу в дом сироты.
Орел сизокрылый, вернись! Одиноко
живу сиротою в суровом краю;
стою пред морского пучиной глубокой,
моря переплыл бы — челна не дают.
Припомню я родину, вспомнив Энея,
припомню — заплачу; а волны, синея,
на тот дальний берег идут и ревут.
Я света не вижу, я точно незрячий,
за морем, быть может, судьба моя плачет,
а люди повсюду меня осмеют.
Пускай улыбнется душа на чужбине —
там солнце, там месяц сияет ясней,
там с ветром в беседу курганы вступают,
там с ними мне было бы сердцу теплей.
Ты душа святая! Речь сердца простого,
речь чистого сердца приветливо встреть!
В сиротстве не брось, как ты бросил дубровы,
промолви мне вновь хоть единое слово,
вернись, чтобы снова о родине петь.
Думы мои, думы мои,
горе, думы, с вами!
Что вы встали на бумаге
хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял
пылю на просторе?
Что вас ночью, как ребенка,
не прислало горе?..
Ведь вас горе на свет на смех породило
поливали слезы... Что ж не затопили?
Не вынесли в море, не размыли в поле?
Люди не спросили б, что болит в груди
почему, за что я проклинаю долю,
почему томлюся... «Ничего, иди!» —
не сказали б на смех...
Цветы мои, дети,
зачем вас лелеял, зачем охранял?
Заплачет ли сердце одно на всем свете,
как я с вами плакал?.. Может, угадал?..
Может, девичье найдется
сердце, кари очи,
что заплачут с вами, думы, —
большего ли хочешь?
Лишь одна б слеза скатилась...
И — пан над панами!
Думы мои, думы мои,
горе, думы, с вами!
Ради глаз девичьих карих,
ради черной брови
сердце билось и смеялось,
выливалось в слове.
В слове этом возникали
и темные ночи,
и вишневый сад зеленый,
и ясные очи,
и поля, и те курганы,
что на Украине...
Сердце млело, не хотело
песен на чужбине.
На совет казачье войско,
меж сугробов белых,
с бунчуками, с булавами
сзывать не хотело...
Пусть же там, на Украине,
души их витают —
там веселье, там просторы
от края до края...
Как та воля, что минула,
Днепр широкий — море,
степь и степь, ревут пороги,
и курганы — горы.
Там родилась, красовалась
казацкая воля;
там татарами и шляхтой
засевала поле.
Засевала трупом поле
воля, опочила,
отдыхает...
Ее давно
приняла могила.
И над нею орел чёрный
сторожем летает.
Кобзари о ней народу
песни распевают,
распевают про былое,
убоги, незрячи, —
им поется... А я... а я
только горько плачу.
Только плачу об Украйне,
а слов не хватает...
А про горе?.. Да чур горю,
кто его не знает?
А кто пристально посмотрит
на людей душою, —
ад ему на этом свете,
на том же...
Тоскою себе счастья не накличу,
коль его не знаю;
пускай злыдни живут три дня
я их закопаю.
Закопаю, пусть у сердца
грусть змеей свернется,
чтобы ворог мой не слышал,
как горе смеется.
Дума пусть себе, как ворон,
летает и крячет,
а сердечко соловейком
и поет и плачет.
Тихо — люди не увидят
Читать дальше

![Тарас Шевченко - Кобзар [Вперше зі щоденником автора]](/books/33139/taras-shevchenko-kobzar-vpershe-zІ-chodennikom-avtora-thumb.webp)