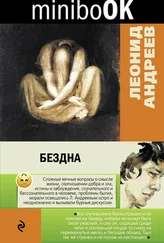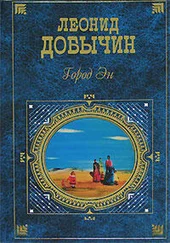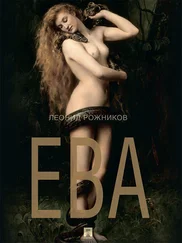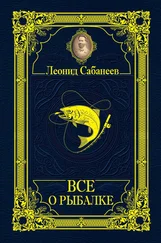К ночи пыль оседала, я споласкивал рот,
Освобождался от наплечных ремней,
Удары сердца я воспринимал как пароль
И гордился озабоченностью своей.
И обернувшись худым одеялом, как учил проводник,
Я слышал было шаги развеселого сна,
Но являлся мой старший брат и песен не заводил,
И простуженно кашлял, и исчезал как луна.
Я звал его, шарил по воздуху непослушной рукой,
Обыскивал местность при поддержке ночного огня,
И товарищи, смертельно уставшие за переход,
Угрожали избавиться от меня.
1996
«И в страшном сумраке аллей…»
И в страшном сумраке аллей
Вставал учитель слободской блаженной памяти
С пятнадцатилетнею утопленницей в обнимку,
Страна была Китай.
На рукаве цветочной клумбы горела свеча,
Любовники недоумевали.
В воздухе пахло грозой,
Кленовый лист прилеплялся к губам.
За пограничным ограждением обнаруживался свежий
провал,
Аллеи распрямлялись в единую линию,
И шторм прощальный уж не огорчал,
И ослабление государства.
1996
«Гирканскому вепрю пристанище отыскать…»
Гирканскому вепрю пристанище отыскать,
Размочалить ресницы, свежий ландыш
Укрепить на загривок – от греха, понимаешь.
Он похож на Приама, он болен.
Он перекатывается посредством кувырков
По направлению к Монголии, по направлению к Марсу,
Слюну расплескивает, как отработанны масла,
Он татарин, он луч золотой.
У него на груди припрятан крошечный аккордеон,
Его, как белку, мучат серафимы —
Чернейшие тайны музы́ки разоблачая,
То, как товарища, упрашивая потерпеть.
1996
«И над каждою крышей звезда…»
И над каждою крышей звезда,
И шоссе золотое от крови.
Нетвердо очерченный берег морской
Глядит государственной границей.
На самых дальних на дистанциях
Блестят зеркала нержавеющей стали.
Овраги немногочисленны, за столетнею дамбою
Раскинулся авиационный полк.
Приютские девушки варят кулеш,
На сердце, очевидно, нелегко.
Причалы бездействуют, девушки различают
Пение гидр под землей.
Живая душа не имеет глагола,
Обеды в поле не страшны.
Форштадтская улица есть преднамеренный Млечный Путь,
И каждый суп накормит человека.
1997
«За домом, за крыжовником любым…»
За домом, за крыжовником любым
Белел макет Европы дымчатого целлулоида,
Как памятник разделу Польши.
Играла музыка из-под земли
На случай расставания, друзья,
И тополь напоминал садовника,
И яблоко напоминало зеленщика.
В траве водились горностаи,
На глинистых террасах блестели золотые монеты.
Живая изгородь стояла насмерть,
Как перед войной.
Мы и сами едва дышали,
Мы ели сливы, как картофель,
Прямая речь сводилась к псалмопению,
Верхний слой почвы оставался прозрачным, ей-Богу.
На наших мускулах блестела роса,
Земля была Месопотамией,
Мы были один человек – очевидно, прославленный
военлетчик —
Без возраста, без предчувствий.
1997
Голова моя сокол,
На пастбищах плоскогорных никого не осталось,
Богородица летает над водою,
Как над Измайловским озером.
И в башне запертый военный летчик
Выплакал упрямые глаза.
Он родом из Удмуртии, он сломлен,
Не унывает никогда.
Судьба и совесть ходят как враги,
Я вижу летчика хозяином земли.
Я тоже останусь в живых, как герой, как единственный
сын —
Огромного роста, с заячьей губой.
1997
«Где было поле обособленное, вырастает роща…»
Где было поле обособленное, вырастает роща,
На камне свечечка горит.
На самых дальних на дистанциях
Мои товарищи смеются надо мной.
И часовые не придерживаются позиций,
На подступах к Хеврону лужи да цветы.
Дорогие мои, скоро праздник,
Хеврон не принимает.
Как хорошо, я приласкаюсь к сваям трубопрóвода,
Мы пришлые, мы ничего не понимаем.
Олень, как колесо, приподнимается на воздух,
Качая белою или зеленой головой.
Благая весть уж не благая весть,
Овраги переполнены продовольствием, медикаментами.
Я выйду со скрипкой и бубном – я микробиолог,
Неистовостью приводящий в изумление сослуживцев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу