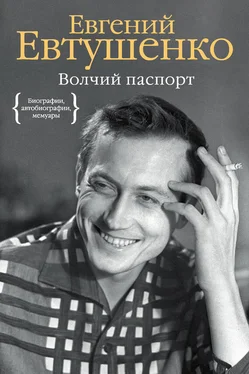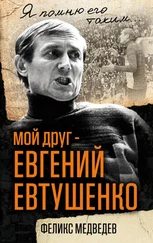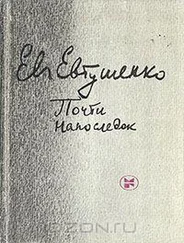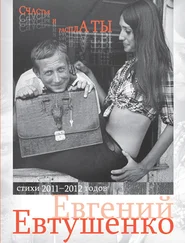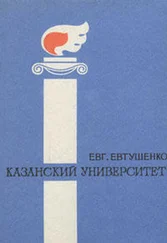Целкова исключили из Академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Николай Акимов, взявший Олега на свой курс в Театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с которым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленинград, представил мне моего будущего близкого друга слегка шутливо, но с долей серьезности: «Олег Целков – возможно, будущий гений…» Стройный, красивый, темноглазый юноша с вьющимися волосами стоял с небрежной независимостью, опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленинградского писателя Кирилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подоконнику. Но, в отличие от Долохова, в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а только свойственное всем настоящим людям искусства детское любопытство к людям, к жизни. Мы подружились с ним с первого взгляда.
До встречи с Олегом я был поклонником Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ состоялась сенсационная выставка работ этого никому доселе не известного ленинградского сироты, женатого на внучке Бенуа, изгоя Академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхонтова. После бесконечных Сталиных, после могучих колхозниц с не менее могучими снопами в питекантропски мощных ручищах – огромные глаза блокадных детей. Мучительное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресторане, современные юноша и девушка, просыпающиеся друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной решетчатой спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однажды зимней ночью мы вместе с Глазуновым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР, грузили эти картины в мой облупленный «москвич», и струи вьюги били в застекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда представить, что попираемый и оплевываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным художником МИДа и в высокомерно-уничижительной манере будет говорить о русском многострадальном авангарде?
Целкова начали поносить со школьной скамьи. А уже в 1957 году загрохотали не только легкие, но и тяжелые – академические – орудия. Так, например, академик Юон в своей статье, перечисляя отступников от социалистического реализма, назвал А. Васнецова, Ю. Васильева, К. Мордовина, Э. Неизвестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художников было обронено и такое суждение: «Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова» («Советская культура», 4 июня 1957 г.). Заодно от Целкова открестился и его бывший «крестный отец» – Иогансон. Но почти одновременно картинам молодого художника была дана и противоположная оценка человеком, который был другом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два целковских натюрморта на молодежной выставке в Москве. Он прислал Олегу письмо, где были такие слова: «На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Браво!» В Целкова сразу поверил революционный турецкий поэт Назым Хикмет и предложил ему работу по оформлению своего спектакля «Дамоклов меч» в Театре сатиры. Думаю, что в работах Целкова Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Маяковского и Мейерхольда. На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Незадолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком баловавшая живописцев своими посещениями.
Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие официальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы… Но все-таки появились и первые покупатели. Это были тогда совсем молодые актеры, художники, журналисты, физики. Переломным для «покупательной репутации» Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского авангарда – Костаки. Первой крупной работой Целкова, проданной за рубеж, был «Групповой портрет с арбузом», описанный мной в поэме «Голубь в Сантьяго». «Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жаждущими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейерных, безликих, со щелками свиными вместо глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерянные семечки взвились». Эту картину приобрел приехавший в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким образом написавший о Целкове. Я был свидетелем того, как Сикейрос и Гуттузо, два «объевшихся красками всезнайки», жадно и деловито спросили, чем написаны его картины. Олег спокойно перевернул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два старых волка живописи прилежно все переписали, как мальчики. Это было высшим профессиональным признанием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу