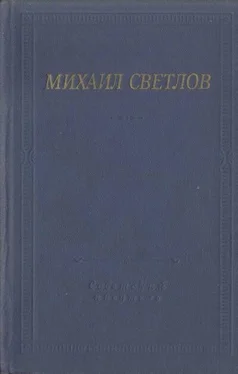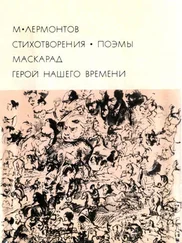«В стянутых улицах городов
Нашей большой страны
Рукопожатия мертвецов
Ныне отменены.
Вот ты идешь. У себя впереди
Шариком катишь грусть,
И нервный фонарь за тобой следит,
И я за тебя боюсь.
Видишь вон крышу? Взберись на нее,
На самый конец трубы, —
Увидишь могилы на много верст,
Которые ты забыл.
И над землею высоко,
С вершины, где реже мгла,
Увидишь, как кладбище велико
И как могила мала!»
Он кончил. Выслушав его,
Фонарь огонь гасил.
И я молчал… А ночь у ног
Легла без сил.
Ушел, и сонная земля
Работы ждет опять…
Спасская башня Кремля
Бьет пять.
В небе утреннем облака
Мерзнут в синем огне —
Это Колькина рука
Начинает синеть…
2. «Поздно, почти на самой заре…»
Поздно, почти на самой заре,
Пришел, разделся, лег.
Вдруг у самых моих дверей
Раздался стук ног.
Дверь отворилась под чьим-то ключом,
Мрак и опять тишина…
Я очутился с кем-то вдвоем,
С кем — я не знал.
Кто-то сел на мой стул,
Тихий, как мертвец,
И только слышен был стук
Наших двух сердец.
Потом, чтобы рассеять тишь,
Он зажег свет…
«Миша, — спросил он, — ты не спишь?»
— «Генрих, — сказал я, — нет!»
Старого Гейне добрый взгляд
Уставился на меня…
— Милый Генрих! Как я рад
Тебя наконец обнять!
Я тебя каждый день читал
Вот уже сколько лет…
Откуда ты? Какой вокзал
Тебе продал билет?
«Не надо спрашивать мертвецов,
Откуда они пришли.
Не всё ли равно, в конце концов,
Для жителей земли?
Сейчас к тебе с Тверской иду,
Прошел переулком, как вор.
Там Маяковский, будто в бреду,
С Пушкиным вел разговор.
Я поздоровался. Он теперь —
Самый лучший поэт.
В поэтической толпе
Выше его нет.
Всюду проникли и растут
Корни его дум,
Но поедает его листву
Гусеница Гум-Гум.
Я оставил их. Я искал
Тебя средь фонарей.
Спустился вниз. Москва-река
Тиха, как старый Рейн.
Я испустил тяжелый вздох
И шлялся часа три,
Пока не наткнулся на твой порог,
Здесь, на Покровке, 3.
……………………………
Ах, я знаю: удивлен ты —
Как в разрушенной могиле
На твоем я слышал фронте
Эти скучные фамилии.
Невозможное возможно —
Нынче век у нас хороший.
Ночью мертвых осторожно
Будят ваши книгоноши.
Всем им книжечек примерно
По пяти дают на брата,
Ведь дела идут не скверно
В литотделе Госиздата.
Там по залам скорбным часом
Бродят тощие мужчины
И поют, смотря на кассу,
О заводах, о машинах…
Износившуюся тему
Красно выкрасив опять,
Под написанной поэмой
Ставят круглую печать.
Вы стоите в ожиданье,
Ваш тяжелый путь лишь начат…
Ах, мой друг! От состраданья
Я и сам сейчас заплачу.
Мне не скажут: перестаньте!
Мне ведь можно — для людей
Я лишь умерший романтик,
Не печатаюсь нигде…
Ты лежи в своей кровати
И не слушай вздор мой разный.
Я ведь, в сущности, писатель
Очень мелкобуржуазный.
В разговорах мало толку,
Громче песни, тише ропот.
Я скажу, как комсомолка:
Будь здоров, мне надо топать!»
Гейне поднялся и зевнул,
Устало сомкнув глаза,
Потом нерешительно просьбу одну
На ухо мне сказал…
(Ту просьбу, что Гейне доныне таит,
Я вам передать хотел,
Но здесь мой редактор, собрав аппетит,
Четыре строки съел).
«Ну, а теперь прощай, мой друг,
До гробовой доски!»
Я ощутил на пальцах рук
Холод его руки.
Долго гудел в рассветной мгле
Гул его шагов…
Проснулся. Лежат у меня на столе
Гейне — шесть томов.
1924–1925
Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д’Арк
К осажденному Орлеану.
Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта, —
Это празднует Трианон День
Марии-Антуанетты.
В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой…
Громкий колокол с гулом труб
Начинают «святое» дело:
Жанна д’Арк отдает костру
Молодое тугое тело.
Читать дальше