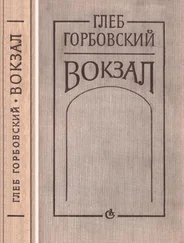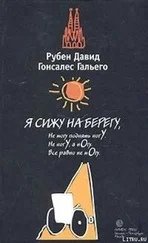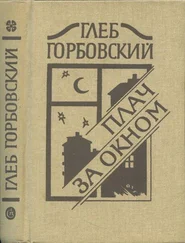Был город крышами очерчен.
А по земле, по мостовым
ползли задумчивые черви, —
кишечный рядом с дождевым,
внезапно вылезший из фруктов
со срочно вставшим из могил;
неразличимый вкупе с крупным.
Тот бесподобен, этот мил,
сей шелковист, а третий влажен
Мой город был обезображен.
Из окон, связками свисая,
сцепясь сосисками в круги, —
вдруг разрывались на куски!
А в центре — женщина босая
с букетом нежности и грез
шла по червячному раствору,
и в пару дивных ее кос
вплеталась лента солитера…
А ветер, в посвисте и гике,
листал распластанные книги.
И Богом данные надежды
рвались, как ветхие одежды.
1963
«Бродвеем — в наркоплен…»
Бродвеем — в наркоплен,
отведать белены.
У негра до колен
приспущены штаны.
Улыбка до ушей —
кейфует старина.
На черном — мельче вшей,
как гниды, — седина.
Из урны — сибарит! —
надкусанный банан.
И мягко бьется стрит
лбом в мраморный туман.
6 марта 1990, Нью-Йорк
На лихой тачанке
я не колесил.
Не горел я в танке,
ромбы не носил,
не взлетал в ракете
утром, по росе…
Просто… жил на свете,
мучился, как все.
1971
Не пишет Шолохов, не пишет
при ситуации любой…
Будь я к нему чуть-чуть поближе,
спросил бы: «Миша, что с тобой?»
В садах за Доном зреют дули,
смолкают войны там и сям,
Хрущев успел покончить с культом
единым стал Лаос, Вьетнам;
уже и Сахаров все тише,
и Солженицын — лататы,
а Миша Шолохов не пишет,
разводит в Вешенской цветы.
Его романы (да и сам он) —
пример писучей детворе,
но ведь романы те писал он
давным-давно… Как — при царе.
Уже пробил Гагарин крышу,
людишки ходят по луне,
и только Шолохов — не пишет!
А почему? По чьей вине?
Быть может, все ему постыло,
и стал он выше суеты?
Не та зимует в теле сила?
В мозгах запасники пусты?
Пусть так… Порою даже Пушкин
молчал. Мелеет даже — Нил.
Ну, не роман, так хоть частушку
нам в утешенье б — сочинил!
Уже и «Тихий Дон» все тише,
и шепоток про это сник…
Не пишет Шолохов, не пишет,
а ведь — зело писал старик!
1970
Боюсь скуки… Боюсь скуки.
Я от скуки могу убить.
Я от скуки податливей суки:
бомбу в руки — стану бомбить,
лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста!
Я от скуки кровь твою выпью,
девочка, розовая красота…
Скука, скука. Съем человека,
перережу в квартире свет.
…Я — сынок двадцатого века.
Я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука — наркоз.
Сплю. Садятся мухи. Жалят.
Скучно так, что… слышно!
Как пение…
Расстреляйте меня, пожалуйста,
это я прошу — поколение.
1957
Хочу увидеть короля.
Живого. В праздничном мундире.
Ведь где-то есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то…
Ведь где-то есть!
…А, может, — нет?
Скорей всего — король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или, по пьянке, был разрушен.
Смекнула стража, что к чему,
ушла в пожарники… А девы —
так до сих пор и не пойму, —
принцессы глупенькие, где вы?
1960
Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.
Сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов, —
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.
И дьявол нас вычерпывал бадьею,
как сточные отбросы сплывших лет…
Но и меж сих, отвергнутых Судьею,
нет-нет и брезжил покаянный свет!
1991
«Переехало собаку колесом…»
Переехало собаку колесом.
Слез не лили, обязательных, над псом.
Оттащили его за ногу в кювет.
Оттащили, поплевали, и — привет.
И меня однажды за ногу возьмут.
Не спасет, что я не лаю и обут.
Что, по слухам, я — талантливый поэт.
Как собаку, меня выбросят в кювет.
Потому что в черной сутолоке дня,
как собаку, переедут и меня.
1958, Сахалин
Читать дальше