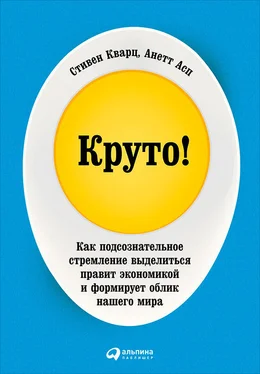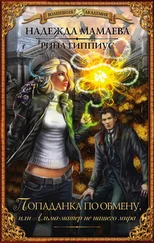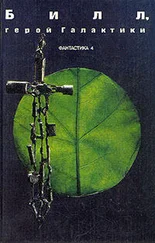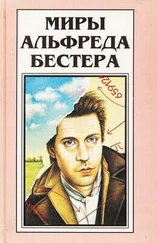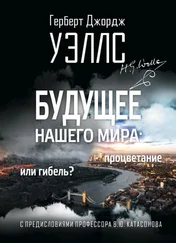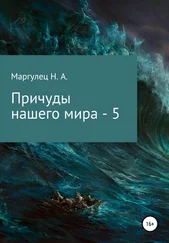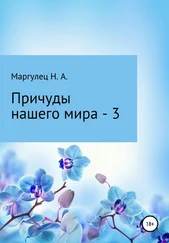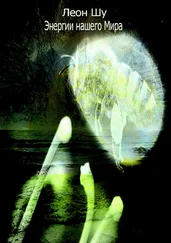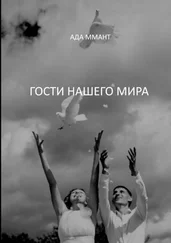За последние тридцать лет в мире владельцев Harley-Davidson многое изменилось. К 2005 г. объем продаж компании составил более триста двадцати пяти тысяч мотоциклов в год. И, согласно Шутену и Макалександеру, «за эти годы мы стали свидетелями смерти относительно монолитной потребительской субкультуры, с которой познакомились в начале нашей работы. Теперь на ее месте возникло нечто более масштабное и богатое, что-то такое, что нам удобно представлять как сложное брендовое сообщество или мозаику микрокультур» {145} 145 Schouten, J. W., D. M. Martin, and J. H. McAlexander. 2007. “The Evolution of a Subculture of Consumption.” In Bernard Cova, Robert V. Kozinets, and Avi Shankar, eds. Consumer Tribes . New York: Routledge, pp. 67–75.
. В частности, вместо преимущественно белых мужчин поколения бэби-бума среди байкеров теперь стало больше женщин, молодых людей и представителей различных этнических групп, что, в свою очередь, привело к более широкому спектру стилей жизни. Члены групп, связанных с маркой Harley-Davidson, расширив таким образом кругозор, стали находить в своей общности больше смысла и значимости. Шутен и Макалександер описывают этот процесс как трансформацию идентичности и новое открытие себя. Эти потребительские субкультуры содержат квазирелигиозные (а иногда и действительно религиозные) и ритуальные элементы, и для них характерно сильное чувство общности, о котором сами последователи говорят как о братстве, основанном на схожих убеждениях и опыте. Этот процесс открытия и переоткрытия себя и социальной связанности через потребление резко контрастирует с неодобрительным представлением о консюмеризме как о чем-то неглубоком и солипсистском и указывает на аффилиативную логику социального отбора.
Почему потребительская культура Harley-Davidson превратилась из иерархичной в плюралистичную, в «мозаику микрокультур»? Почему вообще подобные переходы от иерархии к плюрализму стали распространенной тенденцией в новейшей истории консюмеризма? Во многих исследованиях потребительской культуры за последние годы отмечается распространение таких микрокультур и стилей жизни, а также связанные с этим тенденции к росту потребительского разнообразия {146} 146 См., к примеру: Miller, Daniel. 1987. Material Culture and Mass Consumption . New York: Basil Blackwell. For a review, see Sassatelli, Roberta. 2007. Consumer Culture: History, Theory, and Politics. Los Angeles: Sage.
. Действительно, распространение и повышение разнообразия потребительской культуры как таковой совпадают с более общими линиями развития многих обществ. Политолог Рональд Инглхарт занимался изучением крупномасштабных перемен в обществе начиная с семидесятых годов. В 1981 г. он стал руководителем проекта Всемирного исследования ценностей [29] World Values Survey – всемирный научно-исследовательский проект, который исследует ценности и убеждения людей, как они меняются с течением времени и какое социальное и политическое влияние оказывают. Проект осуществляется с помощью всемирной сети социологов, которые начиная с 1981 г. провели репрезентативные национальные опросы почти в ста странах. WVS является единственным источником эмпирических данных, охватывающих большую часть населения мира (около 90 %). Результаты ценны для политиков, стремящихся построить гражданское общество и демократические институты в развивающихся странах. Исследования также часто используют правительства по всему миру, ученые, студенты, журналисты, международные организации и учреждения. – Прим. ред.
. В рамках этого проекта в разных странах проводятся соцопросы, результаты которых в настоящее время охватывают около сотни различных обществ, представляющих 90 % мирового населения {147} 147 Inglehart, Ronald. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics . Princeton, NJ: Princeton University Press; Inglehart, Ronald F. 2008. “Changing values among Western publics from 1970 to 2006.” West European Politics 31:130–46; Welzel, Christian, and Ronald Inglehart. 2010. “Agency, values, and well-being: A human development model.” Social Indicators Research 97:43–63.
.
Инглхарт обнаружил огромный сдвиг ценностей между поколениями, который начался с послевоенных детей, повзрослевших в конце шестидесятых – начале семидесятых. Предыдущие поколения придерживались ценностей, которые, по мнению Инглхарта, сформировались экономическими реалиями мира, где материальная устойчивость и физическая безопасность были недостаточны или неопределенны. В результате этого важнее всего стали гарантии экономического и физического благополучия. Однако послевоенная экономика быстро принесла многим странам процветание и изобилие. В этой новой реальности молодежь приняла для себя экономические, политические и культурные ценности «постдефицитного» периода. В них главный акцент делался на самостоятельности, самовыражении, эстетическом и интеллектуальном удовлетворении, отрицании авторитетов и толерантности к различным стилям жизни и сексуальным ориентациям, что мы рассмотрим более подробно в восьмой главе {148} 148 Инглхарт называет эти новые ценности «постматериалистскими», а мы будем называть их «постдефицитными» (Инглхарт также употребляет этот термин), чтобы избежать вносящей путаницу коннотации постматериализма как отрицания материальной обеспеченности. Понятие постдефицита, напротив, предполагает изобилие материальных благ, которое играет растущую роль в достижении постматериалистических целей.
. Как отмечает в своем авторитетном интеллектуальном исследовании США последней четверти XX столетия «Эпоха раскола» Дэниел Роджерс, историк из Принстонского университета, этот период характеризовался социальным расколом. Крупные общественные движения и коллективные образования начали делиться на все более и более мелкие. Анализируя перемены в обществе, социологи, экономисты и политологи также стали переходить от рассмотрения крупных общественных структур к более мелким, сосредоточившись в первую очередь на личности. Эту смену перспективы, наверное, точнее всего отражает высказывание Маргарет Тэтчер о том, что не существует такой вещи, как общество {149} 149 Хотя до конца неясно, что именно имела в виду Маргарет Тэтчер в этом своем высказывании, очевидно, что в поиске теоретических объяснений общественных процессов произошел сдвиг от макроэкономического уровня к микроэкономическому, главными действующими лицами которого стали отдельные личности и их деятельность.
. Политологи и историки, такие как Инглхарт и Роджерс, проследили возникновение и расцвет разнородного, фрагментированного и плюралистичного общества, но нам интересно, какие же внутренние силы обеспечили эти преобразования – в частности, перемены в культуре потребления {150} 150 Creanza, N., L. Fogarty, and M. W. Feldman. 2012. “Models of cultural niche construction with selection and assortative mating.” PLoS ONE7 : e42744.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу