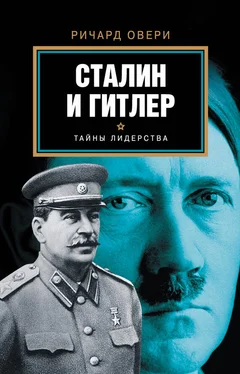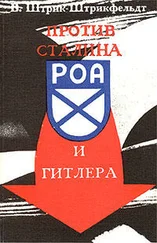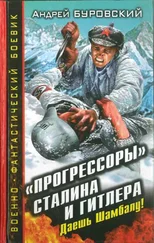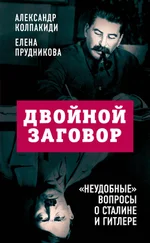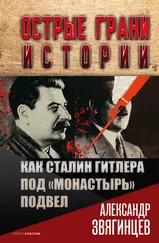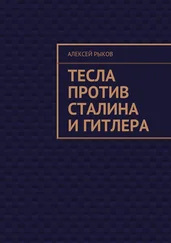Советские образцовые города скорее были индустриальными, чем имперскими центрами. «Жемчужиной» в архитектурной короне нового коммунистического порядка должен был стать город Магнитогорск, расползавшийся во все стороны новый район с тяжелой промышленностью и домами для рабочих, построенными на богатой железом земле вблизи южной оконечности Уральских гор, на склонах Магнитной горы. Именно здесь в 1929 году режим решил воздвигнуть монумент нового, революционного государства, который десять лет спустя стал домом для 200 000 человек и местоположением крупнейшего объединенного промышленного комплекса в Советском Союзе. Новый город имел огромное значение ввиду стремительного промышленного и урбанистического развития, связанного с пятилетним планом. Его конечной целью было, согласно бюллетеню строительного агентства, занятого строительством городов, изданному в 1930 году, «внедрение нового, социалистического образа жизни» 50. Наряду с созданием промышленных регионов и районов с добывающей промышленностью планировалось строить «социалистический город» с огромными парками и плотными зелеными поясами, которые должны были защищать население от постоянных облаков смога и дыма, висевших над всей территорией. Вместо опрятных сельских домов с участками, построенными в Вольфсбурге для квалифицированных рабочих завода «Фольксваген», квалифицированные рабочие и служащие Магнитогорска должны были жить в огромных жилых «суперблоках» – микрорайонах, каждый из которых вмещал более 8000 человек. Все жильцы вместе готовили еду, ели и мылись, чтобы позволить женщинам заниматься более производительным трудом, а не выполнять тяжелую нудную работу; их дети воспитывались в общих детских яслях, в свободное время они ходили в гости, в кино и занимались спортом 51.
Первый суперблок построили в 1933 году, ориентируясь на проект известного немецкого архитектора Эрнста Мая. Недостаток сантехнического оборудования усугубился неспособностью установить канализационную систему, и первые жильцы были вынуждены выдерживать температуры, опускавшиеся до 40 градусов, чтобы добежать до временных деревянных будок на улице, которые служили туалетом для тысяч людей 52. Второй блок был завершен в 1937 году, но он был построен с такими дефектами, что его нельзя было заселять. Большая часть из 200 000 человек, собранных в мрачные, опасные для жизни районы вокруг заводов, жили в одноэтажных деревянных бараках, палатках или землянках. Планированию городов, необходимость в которых возникала в связи с требованиями момента, уделялось мало внимания, поэтому результат сооружения таких объектов мало чем отличался от импровизированных промышленных поселков первой волны индустриализации царских времен. Единственная благополучная область застройки находилась в березовых лесах, где были построены отдельные бунгало и более обширные виллы для американских инженеров, приглашенных для того, чтобы они помогли построить сталеплавильный завод. После отбытия американцев в 1932 году поселок был отдан местной элите, состоящей из управленцев и партийных боссов, наслаждавшихся стилем жизни и материальными привилегиями, совершенно недоступными для пролетарских масс. Мечта о «социалистическом городе» не была материализована. Только 15 % населения этих районов имели счастье проживать в домах из кирпича. На снимках, запечатлевших условия жизни рабочих, видны переполненные деревянные общежития с длинными обеденными столами на стоящих рядами деревянных козлах, условия, практически не отличающиеся от тех, что были в 1932 году в трудовых лагерях НКВД за чертой этих городков. Это был «коллективизм» по определению, т. е. вынужденный 53.
Но, вопреки неудачной попытке построения образцового города, Советский Союз преуспел в создании нового, урбанистического общества. Утопические устремления 1920-х годов открыли дорогу суровой реальности промышленного строительства, но даже в более приземленной сущности диктата сталинского плана сохранялось сугубо утопическое ядро. Предполагалось, что новые города станут центрами пролетарской культуры и партийной власти; вместо королевских дворцов были сооружены дворцы труда; церкви уничтожались, чтобы освободить пространство для партийных зданий; по всем городам Советского Союза открывались школы и больницы, часто это происходило в примитивных деревянных сараях и импровизированных залах. Национал-социалистическая программа также была нацелена на утверждение особого чувства общности, но на базе единого самосознания расового наследия и имперского будущего. Национал-социалистическая модель городов была насыщена воинственными зданиями и политическими монументами, чтобы превзойти в своей мощи общественные здания менее героического буржуазного прошлого. В обеих диктатурах города стали главным физическим воплощением идеи нового общества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу