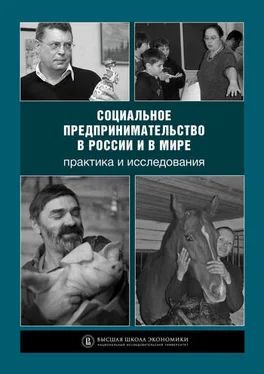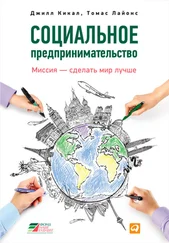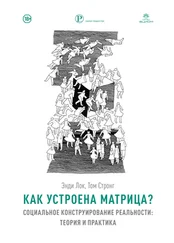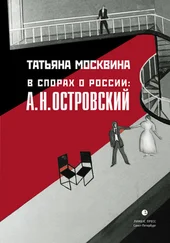Многие модели социальных предприятий демонстрируют примеры, когда именно однородные группы, связанные отношениями высокой плотности, могут конвертировать социальный капитал в экономический. Примером служит прежде всего опыт микрофинансирования, когда не один человек, а солидарная и однородная по важным социально-экономическим параметрам группа служит гарантом платежеспособности своих членов, на этом же принципе достигают успеха организации инвалидов. Среди международных кейсов, описанных в главе 2, на этом типе связей построены модели Dessarrollo Comunitario и Lonxanet в Испании, Terra Nova в Бразилии, Chleb Zycia в Польше. В то же время элементы «плотных связей» в однородных группах используются в большинстве представленных международных кейсов и в одном российском — в Конном центре «Аврора». Кроме того, данный тип связей активно используется для активизации интеллектуального капитала и развития внутри компаний [Nahapiet, Ghoshal, 1998; Moran, 2005]. В частности, П. Моран утверждает, что структурный капитал, основанный на конфигурации межгрупповых связей, оказывает положительное влияние на развитие рутинных процессов и повышение качества исполнительских функций, тогда как отношенческий, основанный на плотности внутригрупповых связей, более тесно связан с развитием инноваций. Можно предположить, что недооценка «плотных» связей однородных социальных групп и переоценка «тонких» в неоднородных в ходе преобразовательной деятельности организаций связана с отождествлением социального капитала с набором социальных связей. Между тем социальные связи становятся капиталом только в преобразующей целенаправленной деятельности, что хорошо видно на примерах социального предпринимательства. В то же время представленный обзор подходов показывает, что специфика и содержательная структура социального капитала еще ждут своего исследования.
После экскурса в теорию вернемся к нашим кейсам. Отличный от Конного центра тип социального предприятия представляет деятельность «Музея игрушки» — практически все элементы взаимодействий этого предприятия имеют рыночную форму. На его примере можно наглядно проиллюстрировать рассуждения Бурдье о разных формах капитала. Руководитель «Музея игрушки» В. Санкин конвертировал накопленный культурный капитал, особенность которого определилась не только наследованием отцовской коллекции («объективированный культурный капитал» по Бурдье), но и, по-видимому, воспитанием с детства в духе интереса и знания народного промысла («инкорпорированный культурный капитал»), а также полученный в связи с продолжением семейной традиции коллекционирования социальный капитал (связь с мастерами и коллекционерами) — в экономический капитал. Здесь присутствуют и другие формы культурного и социального капитала (диплом педагога, комсомольские связи и проч.), которые превратились в профессиональные и организационные, а в конечном счете — экономические ресурсы предприятия. Следует при этом обратить внимание, что данная организация отличается наиболее «рыночной» (товарно-денежное оформление сделок, условия свободной конкуренции) бизнес-моделью из всех четырех описанных предприятий. Достижение социальных целей в нем осуществляется почти целиком через куплю-продажу товаров и услуг (закупка игрушек у мастеров — продажа услуг в области музейной педагогики).
Пример Конного центра и «Музея игрушки» представляет собой своего рода «крайние» формы сочетания рыночных и нерыночных элементов в своей деятельности. В первом значительная часть экономики предприятия находится вне сферы рынка, а бизнес мало пересекается с социальными услугами предприятия, которые оказываются бесплатно. Во втором, наоборот, — практически вся деятельность предприятия осуществляется в рыночной форме, это касается отношений с обеими целевыми группами — традиционными мастерами (закупка игрушек) и детьми, с которыми проводятся платные занятия. При этом в обоих кейсах происходит конвертация социального и культурного капитала в экономический. Во многих других исследованных нами примерах бизнес-модель социального предприятия представляет собой более сложное и тесное переплетение рыночных и нерыночных механизмов, отчего, по-видимому, исследователи и стали говорить о предприятиях социально-предпринимательского типа как о «гибридных» организациях [Alter, 2007].
Различная роль рыночного взаимодействия в кейсах Конного центра и «Музея игрушки» проявляется и в характере использования волонтерского труда. В «Музее игрушки» его практически нет, если не считать студентов, приходящих на практику, но они фактически не рассматриваются как работники. В то же время в Конном центре добровольчество составляет неотъемлемое и необходимое условие работы, так как за счет него на регулярной основе восполняются недостающие ресурсы. Использование труда добровольцев в той или иной степени характерно для всех исследованных нами российских предприятий и проанализированных международных. Поскольку с недавнего времени проекты с участием добровольцев в социальных программах многих крупных бизнес-организаций в России стали едва ли не формальным условием «социальной ответственности», некоей отчетной характеристикой, хотелось бы отметить отличие социальных предприятий от подобной практики.
Читать дальше