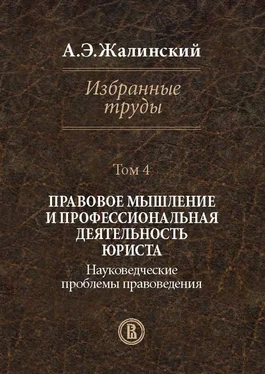Исторически, как известно, уголовное преследование в части, в какой его можно было признать правовым, осуществлялось потерпевшим и лишь постепенно (не везде и не полностью во всех отношениях) передавалось в руки публичной власти.
В современном обществе законодательная власть по общему правилу путем принятия законов, на первый взгляд, сама вполне независимо определяет право иных ветвей власти на применение насилия и определяет условия его применения. Однако исходя из действующей Конституции РФ, в частности из предписаний ст. 3, следует признать, что именно народ, т. е. граждане и общество, наделяют государство в лице его законодательной власти правом запрещать некоторые виды поведения, устанавливать и на основе закона исполнять как наказания, так и иные уголовно-правовые меры, связанные с нарушением этих запретов, обосновывая это необходимостью поддержания основных условий существования общества (социально-правового порядка).
Во всяком случае, применительно к уголовному праву публичная власть, оставаясь в рамках Конституции, обязана действовать в пределах полученной компетенции, а переданные ей частные интересы превращаются в принятые публичные интересы и тем самым в конституционные полномочия, позволяющие даже ограничивать основные права и свободы человека и гражданина. При этом народ, в конституционном понимании этого слова, вправе пересматривать объем и содержание полномочий, переданных публичной власти, действуя в таких ситуациях также на основе Конституции РФ. Это означает, что переданная уголовно-правовая компетенция может быть обществом у публичной власти отозвана или, говоря иначе, сокращена, ограничена, преобразована.
Данное положение нуждается в конкретизации. Разумеется, предполагается, что законодательная власть страны, принимая уголовные законы, действует рационально, исходя из интересов личности, социальных групп, общества в целом. Столь же необходимо предполагать, что таким же образом действует и власть, исполняющая эти законы. Поэтому сокращение компетенции есть специфическое средство социального контроля, применяемое рационально и взвешенно. Тем не менее, осуществляя в смысле ст. 3 Конституции РФ свою власть, народ, общество должны принятыми конституционными процедурами реально контролировать тех, кто этим занимается непосредственно. Это право общества – как наделять созданную им публичную власть определенной компетенцией, так и отзывать ее – усиливает начало социальной саморегуляции.
О возможных направлениях дополнительной поддержки (обеспечения) частной составляющей в публичном интересе уголовного права. Российский и зарубежный опыт указывают на многообразие таких направлений. Здесь есть и внешне простые, но на самом деле крайне сложные вещи, в частности:
• ограничение интересов чиновничества исполнением возложенных на них функций;
• десакрализация государства, которое во многих работах буквально обожествляется, когда авторы, не раздумывая над противоречивостью своих предложений, пишут о необходимости борьбы с должностной коррупцией путем усиления государственного контроля, репрессий и проч.
В уголовном праве на юридико-социальном и юридико-техническом уровнях можно указать на более ограниченные по эффекту, но и более реализуемые способы поддержки частной (но публично значимой) составляющей уголовно-правового регулирования. К ним можно отнести, естественно, кроме расширения пределов частного (и частно-публичного) исключительного обвинения как права на уголовно-правовой упрек, также и предоставление потерпевшему либо иным заинтересованным субъектам права компетенции в сфере выбора мер уголовно-правовой состязательности, собственно расширение защиты персонифицированных (частных) интересов личности и другие, реализуемые через криминализацию поведения, способы.
Названные и неназванные направления усиления частноправовой составляющей в уголовном праве подкрепляются, либо усиливаются, либо трансформируются в современных уголовно-процессуальных системах, что требует специального анализа.
Здесь же достаточно указать, что изолированное, не связанное с иными нормативно-правовыми и уголовно-политическими решениями изменение соотношения частного, частно-публичного и частного обвинения должных результатов дать не может.
Разделение публичного и частного обвинения в уголовном праве и уголовном процессе. Такое разделение, как уже говорилось, позитивно. Оно языком закона и его средствами устанавливает содержание компетенции, передаваемой гражданам публичной власти в данной сфере, т. е. является средством распределения компетенции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу