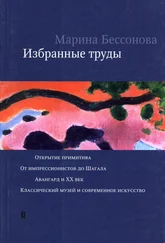В приведенном положении из работы проф. Меньшагина подняты фактически два самостоятельных вопроса: первый – об общественной опасности и наказуемости высказывания военнослужащим в среде других военнослужащих намерения со вершить воинское преступление, и второй – является ли подобное высказывание обнаружением умысла на совершение воинского преступления, которое надлежит наказывать как оконченное должностное воинское преступление.
Первый вопрос не касается темы нашего исследования. Конечно, указанные действия не безразличны для воинской дисциплины. Должны ли они наказываться в уголовном порядке, как предлагает проф. Меньшагин, или в дисциплинарном, как предлагает проф. Чхиквадзе [392], это – вопрос самостоятельный.
На второй вопрос необходимо ответить отрицательно. Тем более, что и сам проф. Меньшагин, предлагая квалифицировать обнаружение умысла на воинское преступление как оконченное должностное преступление , прямо признает таким образом, что высказывание военнослужащим в среде других военнослужащих намерения совершить какое-либо воинское преступление не является стадией этого воинского преступления, хотя бы и в форме обнаружения умысла. Потому проф. Меньшагин и предлагает квалифицировать подобные высказывания, например о намерении совершить дезертирство, не по ст. 19 и ст. 193 7, а по ст. 193 17УК РСФСР, как должностное воинское преступление. Тем самым проф. Меньшагин, по существу, признает, что опасность таких действий заключается не в том, что военнослужащий высказывает намерение совершить дезертирство, которое может и не последовать, а в разлагающем, деморализующем влиянии подобных высказываний на воинский коллектив. Опасность дезертирства, как известно, носит совершенно иной характер.
Обнаружение умысла иногда смешивают с подстрекательством к совершению преступления, что также является неправильным. В примере, приводимом проф. В. Д. Меньшагиным, когда один военнослужащий говорит другому: «Я бы на твоем месте совершил самовольную отлучку», как раз и имеет место такое завуалированное подстрекательство, внешне, по форме напоминающее обнаружение умысла на самовольную отлучку. Субъект, который, подыскивая себе соучастника, является к другому лицу «зондировать почву», для чего рассказывает, что он-де хочет совершить преступление, спрашивает, как смотрит на это собеседник и т. д., также совершает подстрекательство к преступлению. Если указанные лица договорились совершить преступление и если их преступная деятельность будет, по не зависящим от них причинам, пресечена на этой стадии, может возникнуть вопрос об ответственности за приготовление к тому преступлению, которое они намеревались совершить в соучастии.
Все сказанное ранее позволяет нам выдвинуть требование о том, чтобы исключить из учебников советского уголовного права всякое упоминание об обнаружении умысла, как о стадии преступления, ибо ни стадией развития преступления, ни наказуемым как самостоятельное преступное деяние обнаружение умысла не является.
* * *
* * *
После того как субъект принимает окончательное решение о совершении преступления, он начинает действовать. Первой стадией развития преступления является приготовление к преступлению . На этой стадии субъект создает необходимые и благоприятные условия для успешного выполнения преступления: готовит и приобретает орудия преступления, подделывает документы, организует преступную шайку и т. д. Тем самым на этой стадии развития преступления субъект создает реальную возможность совершения преступления.
После того как субъектом созданы необходимые условия совершения преступления, когда создана, следовательно, возможность совершения преступления и наступления преступного результата, и остается только реализовать эту возможность, субъект приступает к самому исполнению преступления . Исполнение преступления является второй, и притом решающей, стадией развития преступления. На этой стадии субъект превращает созданную приготовительными действиями возможность наступления преступного последствия в действительность . Субъект начинает непосредственное причинение преступного результата. Действия по исполнению умышленного преступления, как всякая иная причина, содержат в себе закономерную необходимость наступления преступного результата. Таковы: завладение имуществом при хищении, нажатие курка огнестрельного оружия при совершении убийства, перепродажа товаров при спекуляции и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Кудрявцев Избранные труды [сборник] обложка книги](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-cover.webp)