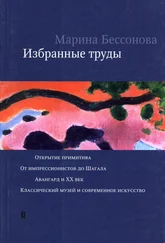Обнаружение умысла не является и не может являться стадией развития преступления. Стадией развития преступления называется лишь то, что служит ступенькой к достижению преступного результата, что в большей или меньшей степени, но обязательно способствует причинению ущерба объекту преступления, приближает субъекта к намеченной цели [381].
Обнаружение умысла ни одним из указанных признаков стадии развития преступления не обладает. Высказыванием намерения совершить преступление или совершением конклюдентных действий, свидетельствующих о наличии такого намерения, субъект не создает никаких благоприятных условий выполнения преступления. Ни в обусловливающей, ни тем более в причинной связи с совершением преступления обнаружение умысла не находится. В результате обнаружения умысла посторонние лица узнают о преступном намерении субъекта – это является единственным последствием обнаружения умысла. Нетрудно заметить, что обнаружение умысла не только не приближает субъекта к преступной цели, но, напротив, отодвигает от нее. В отношении такого субъекта могут быть приняты меры предосторожности, вследствие чего реализация его преступного намерения станет либо вовсе невозможной, либо весьма затруднительной. Не случайно поэтому преступники очень редко обнаруживают свои преступные намерения до того, как совершением приготовительных действий или исполнением преступления им поневоле приходится их обнаруживать. [382]
Не будучи стадией развития преступления, обнаружение умысла вообще не является общественно опасным деянием. В самом деле, какие социалистические общественные отношения страдают от того, что кто-то преждевременно, до совершения преступных действий, выболтает свое преступное намерение? Никакие. Поэтому нельзя согласиться с И. И. Слуцким, который пишет: «Опасность может быть наличной не только на стадии покушения на преступление, но также и на стадии приготовления или обнаружения умысла при условии, если субъект своим поведением подтвердил наличие непосредственной, неминуемой опасности начала осуществления преступного посягательства» [383]. Обнаружение умысла не создает опасности правоохраняемым объектам, а тем более не является началом осуществления преступного посягательства.
Установление судом того обстоятельства, было ли в данном случае приготовление к преступлению или лишь обнаружение умысла, имеет очень важное значение для решения вопроса об уголовной ответственности. При наличии лишь одного обнаружения умысла лицо уголовной ответственности не подлежит. Так, Скворцова была осуждена Новгородским областным судом по ст. 19–79 ч. 1 УК РСФСР и по ст. 4 Указа от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». Скворцова была признана виновной в том, что она с целью скрыть следы хищений готовилась поджечь помещение сельпо, в котором работала. Для этого, как указывается в приговоре суда, Скворцова, имея при себе бутылку с горючей жидкостью, подошла к сельпо, но поджог совершить не смогла, так как возле сельпо находился какой-то посторонний человек, которого она испугалась.
Рассматривая данное дело в кассационном порядке, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР отменила приговор суда первой инстанции в части обвинения Скворцовой по ст. 19–79 ч. 1 УК РСФСР. Материалами дела приготовительные действия к поджогу со стороны Скворцовой не подтверждались. По де лу было установлено лишь то, что Скворцова высказала Тарасовой намерение совершить поджог помещения сельпо. Учитывая, что обнаружение умысла совершить преступление не является стадией преступления и потому в уголовном порядке ненаказуемо, коллегия дело в части осуждения Скворцовой по ст. 19–79 ч. 1 УК РСФСР производством прекратила [384].
В некоторых учебниках по советскому уголовному праву встречаются утверждения, будто бы обнаружением умысла являются некоторые действия, предусмотренные законом в качестве самостоятельных преступлений. К числу таких преступлений названные учебники относят предусмотренную в ст. 73 1УК РСФСР и соответствующих статьях УК других союзных республик угрозу должностным лицам или общественным работникам, угрозу убийством или насилием, предусмотренную ст. 143 УК Туркменской ССР и ст. 203 УК Азербайджанской ССР, а также контрреволюционную агитацию и пропаганду. Причем указывается, что в этих случаях, якобы имеет место уголовно наказуемое обнаружение умысла [385]. Другими словами, перечисленные действия признаются авторами этих учебников соответственно стадиями преступлений против личности или контрреволюционного преступления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Кудрявцев Избранные труды [сборник] обложка книги](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-cover.webp)