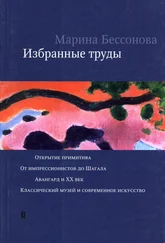В июле 1923 г. II сессия ВЦИК X созыва внесла изменение в ст. 12 УК РСФСР. Заключительная часть этой статьи была изложена следующим образом: «Приготовление не карается, если оно само по себе не составляет деяния, наказуемого согласно настоящему кодек су, но от суда зависит применять в отношении привлекаемых лиц, признаваемых им социально опасными, меры социальной защиты» [367].
Закон, таким образом, допускал ответственность за приготовление к преступлению, причем вопрос о привлечении к ответственности за приготовление к преступлению решался в каждом конкретном случае судом в зависимости от социальной опасности лица. Согласно же ст. 49 УК РСФСР, социальная опасность субъекта определялась его связью с преступной средой и прошлой преступной деятельностью. Лица, признанные социально опасными, подлежали высылке на срок до трех лет.
Призванная ликвидировать трудности, возникавшие в судебной практике при преследовании общественно опасной подготовительной преступной деятельности, приведенная выше поправка к ст. 12 УК РСФСР не могла полностью выполнить этой задачи. При всем значении социальной характеристики субъекта, его связи с преступной средой и прежней судимости – эти признаки не могут подменить собой объективную общественную опасность деяния. Новая конструкция ответственности за приготовление вела к тому, что приготовление отрывалось от соответствующего преступления и превращалось в своего рода самостоятельное оконченное преступление с самостоятельным наказанием.
Помимо этого, поправка к ст. 12 УК РСФСР страдала еще одним недостатком: в соответствии с этой поправкой приготовление к любым преступлениям могло влечь за собой во всех случаях лишь одну, и притом одинаковую, меру наказания – высылку на срок до трех лет. Между тем для одних приготовительных действий, например при приготовления к незаконной охоте, эта мера наказания была слишком строгой, а для других, например, при приготовлении к контрреволюционным преступлениям, – слишком мягкой.
Ввиду того, что в соответствии с поправкой к ст. 12 УК РСФСР 1922 г. ответственность за приготовление связывалась с социальной опасностью субъекта, отдельные криминалисты сделали из этого ошибочный вывод, будто бы тем самым в советское уголовное право были внесены чуждые ему элементы субъективизма, «социальной опасности субъекта» [368].
Трудности, с которыми столкнулось наше законодательство при конструировании ответственности за предварительную преступную деятельность, были трудностями роста. Законодатель искал наиболее правильное решение этой проблемы и под воздействием практики все ближе и ближе подходил к нему.
* * *
Значительной вехой в истории советского уголовного права явилось издание основ общесоюзного законодательства, обусловленное образованием Союза Советских Социалистических Республик.
31 октября 1924 г. были изданы «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». В ст. 1 «Основных начал» указывается, что уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик имеет своей задачей судебно-правовую защиту государства трудящихся от общественно опасных деяний, подрывающих власть трудящихся или нарушающих установленный ею правопорядок.
В прямом соответствии с материальным определением преступления решаются в «Основных началах» и вопросы ответственности за предварительную преступную деятельность. Подчеркивая эту связь, проф. М. С. Строгович писал: «Если преступление не есть формальное понятие, а действительно, социально опасное явление, разумеется, нельзя заранее объявить, что такая-то стадия осуществления преступления ненаказуема: если в этой стадии действия того или иного лица являются социально опасными не только сами по себе, но и по отношению к преступной цели, к достижению которой они ведут, ни в коем случае нельзя отказываться в отношении этих лиц от применения соответствующих мер социальной защиты» [369].
Ст. 11 «Основных начал» установила наказуемость как приготовления к преступлению, так и покушения на него. В этой статье указывается: «Если начатое преступление не было доведено до конца, то есть если преступный результат по каким-либо причинам не наступил, то суд при выборе мер социальной защиты, назначенных уголовным законом за данный вид преступления, руководствуется степенью осуществления преступного намерения».
Комментируя ст. 11 «Основных начал», т. Красиков, прокурор Верховного Суда СССР, на II сессии ВЦИК СССР говорил: «Здесь особенность в вопросе, трактующем о покушении и приготовлении к совершению преступления. Говоря о стадиях совершения преступления, проект становится на некоторую новую точку, где все эти стадии предоставляется определить самому суду мерою приближения к совершению преступления. Таким образом, теоретические дебаты о преступлении и его стадиях отходят на задний план, и суду уже предоставляется считаться при выборе наказания именно со степенью осуществления преступления и со степенью участия в преступлении» [370].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Кудрявцев Избранные труды [сборник] обложка книги](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-cover.webp)