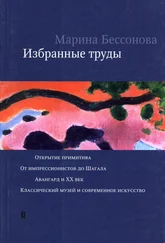Основываясь на указаниях партии, IX Всероссийский съезд. Советов признал очередной задачей государства «…водворение во всех областях жизни строгих начал революционной законности» [359].
Уголовное законодательство в период нэпа должно было решать двуединую задачу: с одной стороны, обеспечить в строго определенных рамках оживление частнопредпринимательской деятельности и торговли как одного из средств создания материальной базы индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, а с другой – четко установить, какие действия являются преступными, карая со всей строгостью малейшее нарушение социалистической законности.
С 1 июля 1922 г. был введен в действие первый советский уголовный кодекс – Уголовный кодекс РСФСР.
Этот кодекс содержал, в частности, развернутое определение приготовления к преступлению, покушения на преступление и видов покушения. УК РСФСР 1922 г. устанавливал, что приготовлением к преступлению считается приискание, приобретение или приспособление орудий, средств и создание условий для совершения преступления. Приготовление к преступлению каралось лишь в том случае, если оно само по себе являлось наказуемым действием (ст. 12).
Покушением на преступление, как указывалось в кодексе, считается действие, направленное на совершение преступления, когда совершающий таковое не выполнил всего того, что было необходимо для приведения его намерения в исполнение, или когда, несмотря на выполнение им всего, что он считал необходимым, преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим (ст. 13).
Покушение на преступление каралось по УК РСФСР 1922 г. как совершенное преступление. При этом отсутствие или незначительность вредных последствий покушения могли быть приняты во внимание судом при определении меры наказания. Покушение, не доведенное до конца по собственному побуждению покушавшегося, каралось как то преступление, которое было этим лицом фактически совершено (ст. 14).
Положительными сторонами постановлений УК РСФСР 1922 г. об ответственности за предварительную преступную деятельность по сравнению с «Руководящими началами» было, во-первых, то, что кодекс связывал степень наказуемости покушения с объективной опасностью деяния. Во-вторых, кодекс давал четкое понятие приготовления к преступлению, которое он определял как создание условий для совершения преступления. В-третьих, кодекс содержал постановление о добровольном отказе от преступления, хотя и не употреблял этого термина. Вместе с тем УК РСФСР 1922 г. сохранил в качестве неотъемлемого признака покушения впервые сформулированное «Руководящими началами» положение о том, что для покушения характерно ненаступление преступного результата по не зависящим от данного лица обстоятельствам.
Покушение на преступление подразделялось в рассматриваемом кодексе на оконченное и неоконченное. Однако кодекс не придерживался при этом единого критерия деления. Оконченное покушение УК РСФСР 1922 г. определял, исходя из объективного критерия (когда лицо, совершающее преступление, не выполнило то, что было необходимо для приведения его намерения в исполнение), а неоконченное, исходя из субъективного критерия (когда субъект, совершающий преступление, не выполнил «всего, что он считал необходимым»).
Отсутствие в УК РСФСР 1922 г. единого критерия для разграничения оконченного и неоконченного покушения несомненно затрудняло практическую деятельность судов. К тому же судам трудно было отличать приготовление к преступлению от неоконченного покушения на преступление, поскольку при приготовлении субъект тоже делает не все, что считает необходимым сделать для совершения преступления. Между тем вследствие ненаказуемости приготовлений к преступлению по УК РСФСР 1922 г. вопрос о разграничении приготовления и покушения приобретал принципиальный характер, будучи частью проблемы об отличии преступных действий от непреступных.
Нужно отметить, что судебная практика очень скоро доказала недопустимость оставления безнаказанным приготовления ко всем без исключения преступлениям. Нельзя оставлять ненаказуемыми приготовительные к преступлению действия потому, что грань, отделяющая приготовление к преступлению от покушения на преступление, не совпадает с границей, отделяющей общественно опасные преступные действия от действий непреступных. Приготовление к таким преступлениям, как контрреволюционные преступления, хищения, убийство, фальшивомонетничество, спекуляция, поджоги и т. д., является безусловно общественно опасным действием и должно влечь за собой уголовную ответственность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Кудрявцев Избранные труды [сборник] обложка книги](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-cover.webp)