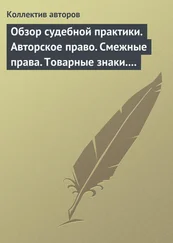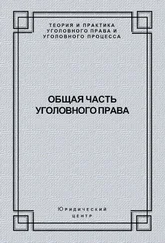Таким образом, судебная реформа Петра Первого способствовала, во-первых, появлению инстанционности судебной системы, во-вторых, развитию досудебного производства, в-третьих, можно уже говорить о том, что уголовное и уголовно-процессуальное право стали рассматриваться законодателем как самостоятельные отрасли права, требующие отдельного правового регулирования.
Дальнейшее развитие уголовного и уголовно-процессуального законодательства идет несинхронно. Уголовные и уголовно-процессуальные законы принимаются в разное время и зачастую без учета необходимости их согласования.
Последующее развитие судебной системы России Д. В. Фетищев характеризует как «соединение судебной и правительственной власти». Как свидетельствует автор, уже начиная с правления Екатерины Первой был осуществлен отказ от системы построения судов, созданной Петром Первым, что было связано с тяжелым финансовым положением страны 58.
Следующая попытка реформировать судоустройство и судопроизводство была предпринята во время правления Екатерины Второй. Ее характерной чертой, по мнению Д. В. Фетищева, было всепроникающее сословное начало и осуществление на началах децентрализации, инициаторы которой пытались обеспечить большую самостоятельность судебных органов 59.
В это время было также осуществлено более последовательное отделение судебной функции от следственной, что нашло отражение в таком правовом акте, как в Учреждение о губерниях 1775 г. Он содержал в себе нормы, относящиеся ко многим отраслям права, в том числе, и к уголовному процессу. Согласно данному документу производство следствия было поручено городничим и земским исправникам, которым законом было предписано следить за соблюдением порядка в уезде или городе (ст. ст. 237, 254 Учреждения о губерниях 1775 г.) 60. В случае обнаружения признаков преступления они должны были исследовать все обстоятельства совершенного деяния, допросить свидетелей и передать виновных, если таковые были обнаружены, в суд (ст. ст. 243, 266 указанного правового акта). Таким образом, в этом случае законодатель четко отграничил производство следственных и судебных функций. С этого момента, как пишет В. А. Линовский, «на обязанности судебных мест осталось подвести под надлежащий закон те признаки, которые открыты в следствии, и выразить их в надлежащей форме, то есть постановить приговор, который должен основываться на доказательствах не сомнительных и который должен удовлетворять началам правды и справедливости» 61.
Однако ст. 110 главы VII Учреждения о губерниях 1775 г., посвященной порядку производства дел уголовных, на суды низшего звена налагалась обязанность непосредственно исследовать обстоятельства совершенного преступления и вынести по нему окончательное решение, но только тогда, когда за его совершение не полагалось лишение жизни или чести. В последнем случае дело после исследования отсылалось в вышестоящие суды. Для Уездного суда вышестоящей инстанцией приходился Верхний земский суд, для Городового магистрата или Ратуши – Губернский магистрат, для Нижней расправы – Верхняя расправа. После вынесения приговора эти суды отсылали дела в Палату уголовного суда для ревизии «о порядочном производстве и решении дела» 62.
Некоторые уточнения и дополнения по вопросу о том, как толковать положения Учреждения о губерниях 1775 г., были закреплены в Указе 1800 Октября 29, в котором было выражено, что исследование судебных мест первой инстанции, установленное в Учреждении о губерниях, есть рассмотрение и дополнение следствий, производимых полицейским установлением 63.
Учреждение о губерниях 1775 г. нам интересно еще и потому, что ст. 395 данного правового акта учреждала Совестный суд. К подсудности данного Суда помимо ряда гражданских дел относились дела, «касающихся до таковых преступников, кои иногда более по несчастливому какому ни наесть приключению, либо по стечению различных обстоятельств впали в прегрешения, судьбу их отягощающия выше мер ими содеяннаго, так же преступления учиненныя безумным, или малолетным., и дела колдунов, или колдовства, по елику в оных заключается глупость. Обман и невежество, надлежит отсылать в совестный суд, который един право имеет учинить о вышеописанном решение» (ст. 399) 64. Таким образом, как отмечает Т. Ю. Амплеева, на практике Совестный суд был первой инстанцией по преступлениям, совершенным малолетними, безумными или людьми, «впавшими в прегрешение» по несчастливому стечению обстоятельств, по делам о колдовстве 65.
Читать дальше