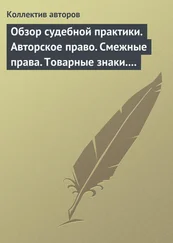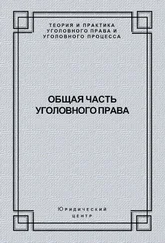Следует также законодательно урегулировать вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и продления этой меры пресечения в целях обеспечения выдачи лица запрашивающему государству. Согласно позиции ЕСПЧ первоначальное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу лица, в отношении которого получен запрос о выдаче, соответствует подп. «f» п. 1 ст. 5 Конвенции, в дальнейшем же процесс продления данной меры пресечения и процесс проверки законности избранной меры пресечения должен соответствовать ст. ст. 108, 109 УПК 264.
Представляется необходимым закрепление данной процедуры путем внесения изменений и дополнений в УПК (ст. 466). Заметим, что ЕСПЧ неоднократно указывал, что законы, допускающие ограничение прав и свобод человека, должны быть конкретными, беспробельными и понятными. «Европейский Суд не может не отметить, что в ряде постановлений он заключил, что указанные положения не были ясными и предсказуемыми с точки зрения их применения и не отвечали конвенционному стандарту “качества закона”» 265.
Вышеуказанное постановление Пленума предполагает распространение общих положений УПК на обжалование решений о выдаче – правила обязательного участия защитника в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК, переводчика, лица, в отношении которого было принято решение о выдаче (п. 25) – все это соответствует современным европейским стандартам права на эффективное правовое средство защиты. Распространение принципа «Разумного срока уголовного судопроизводства» на разрешение вопроса о выдаче лица полностью соответствует практике ЕСПЧ по ст. 6 Конвенции в части обеспечения права каждого на рассмотрение его дела в разумный срок.
Новое постановление Пленума Верховного Суда РФ ориентирует суды на необходимость учета положений ст. 3 Конвенции при решении вопроса о выдаче лица тому государству, где имеется реальная угроза нарушений ст. 3 «Запрещение пыток». Верховный Суд РФ в данном случае совершенно справедливо указывает судам на необходимость оценки широкого спектра источников – докладов межправительственных организаций (Совета по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН, Комитета ООН по правам человека, Комитета ООН против пыток и т. п.). По нашему мнению, данный перечень может быть дополнен указанием на необходимость учета решений ЕСПЧ, согласно которым экстрадиция в ряд стран (Узбекистан, Таджикистан, Колумбия и т. п.) признавалась нарушением ст. 3 Конвенции 266.
В постановлении также указывается, что РФ может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на ее территории, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону РФ и законам запрашивающего государства. В этой связи судам разъясняется, что несовпадение в описании отдельных признаков состава преступления, в совершении которого обвиняется выдаваемое лицо, либо юридической квалификации, не является основанием для отказа в выдаче. Имеют значение фактические обстоятельства совершенного преступления и его наказуемость по законам обоих государств (п. 5).
Возникает проблема, вправе ли суд здесь вторгаться в вопрос о правильности квалификации по уголовному закону иностранного государства, то есть фактически проверять обоснованность обвинения. Практика Верховного Суда РФ по данному вопросу является противоречивой. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу Назаряна А. М. установила, что запрашивающая сторона не располагает документами, которые давали бы бесспорное основание для признания Назаряна А. М. субъектом инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 362 УК Республики Армения – дезертирство. Назарян А. М. пояснил, что проходил военную службу по контракту, срок действия которого составлял 5 лет после окончания учебного заведения и который истек в 2003 г., другого контракта с ним не заключалось, на момент его выезда в РФ обязанности по воинской службе в Республике Армения им выполнены и он не мог быть субъектом данного преступления. То есть здесь Верховный Суд РФ указал на возможность проверки обоснованности обвинения иностранного государства 267. Аналогично вопрос решен по делу Мамаджанова Б. Х. 268.
А при рассмотрении дела о выдаче Азимова И. Ш. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ установила, что доводы Азимова И. Ш. об «алиби», в частности о том, что в октябре 2007 г. он находился на территории Российской Федерации, могут быть полно и всесторонне проверены только в рамках предварительного следствия по возбужденному уголовному делу и не входят, таким образом, в компетенцию суда 269.
Читать дальше