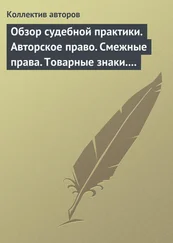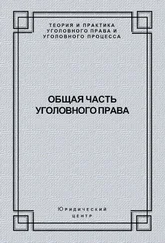Этот тезис, приводимый практически всякий раз, когда речь заходит о связи материального и процессуального (уголовного) права, на долгие годы определил доминирующую позицию в советской процессуальной литературе 161и до сих пор оказывает влияние на некоторых современных авторов 162;
– средства и цели . Концепция соотношения уголовного права и процесса как цели и средства получила довольно широкое распространение. Ее представителями были П. Д. Калмыков, А. С. Лыкошин 163и др. Среди более поздних авторов, рассуждающих в подобном русле, можно назвать Н. С. Алексеева, Л. Д. Кокорева, В. Г. Даева, А. Д. Прошлякова, С. П. Ефимичева, П. С. Ефимичева, А. В. Попова, В. В. Сверчкова, В. Т. Томина, А. Б. Чичканова, З. В. Макарову 164и др.
Согласно второму подходу материальное право и процесс хотя и имеют генетическую связь, однако при этом обладают частичной самостоятельностью. Данный подход, как и первый, базируется на признании взаимозависимости уголовного материального права и процесса, но реализует, тем не менее, попытку учесть случаи их раздельного осуществления:
– ограниченная самостоятельность материального права . Согласно этому воззрению (все также признающему только легализованную реализацию норм материального уголовного права) проявляется в том, что при определенных условиях оно может функционировать и автономно. В частности, таково мнение В. П. Божьева, полагающего, что из факта обусловленности бытия уголовного процесса необходимостью реализации норм уголовного права вовсе не следует, что он есть универсальная и единственная форма такой реализации. Уголовный закон, по его мнению, может реализовываться и вне уголовного процесса, когда гражданами добровольно выполняются его предписания 165. Разделяют (разделяли) эту позицию и другие авторы, в том числе и общие теоретики, и теоретики уголовного права, и процессуалисты (например, Ю. К. Якимович, А. В. Ленский, Т. В. Трубникова, В. Д. Филимонов, Д. Ю. Гончаров, А. А. Васильченко, И. С. Крамской 166и др.);
– ограниченная самостоятельность уголовного процесса усматривается в том, что он, продолжая быть прежде всего проводником, средством или формой карательной власти государства, наряду с этим, обслуживает и иные цели: защиту прав личности, ограждение невиновного от наказания, возмещение вреда и проч. (например, Н. М. Кропачев, В. Н. Шпилев, И. С. Крамской, З. В. Макарова, А. С. Барабаш, З. Л. Шхагапсоев, В. А. Горленко, А. Г. Гурбанов, И. Н. Кондрат, Н. Н. Михайлов 167и др.). «Сводить взаимоотношения уголовного и уголовно-процессуального отношения только к схеме “форма-содержание”, – пишет М. Н. Белов, – значит, значительно упрощать сущность раскрываемых понятий» 168. Это воззрение покоится на осознании некоторого разрыва между уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными отношениями.
Третий подход представляет процесс и материальное право в качестве двух независимых феноменов . Эта теория, в отличие от предыдущих, в принципе отрицает производность уголовного процесса от карательного материального права, усматривая в его существовании иные причины. Отношение уголовного права к процессу здесь рассматривается не только не как «посредственное исполнительство», но и вообще не как «соучастие». Сторонником этого подхода был в свое время Н. Н. Розин. Его убеждение состояло в том, что, основные процессуальные институты получают свои черты вовсе не из материального (уголовного и гражданского) права. Вопросы о подготовке судебного следствия, о доказательствах и т. п., писал он, также мало являются вопросами уголовного права, как и вопросами права гражданского. Н. Н. Розин считал ошибочным воззрение, в силу которого институты уголовного процесса извлекают начала свои из природы «материального» уголовного права. Преследуя вне его лежащие цели, процесс, тем не менее, живет собственной юридической жизнью, и отдельные моменты его определяются самостоятельными правовыми нормами 169. Н. Н. Полянский по этому поводу замечал: «Если бы процесс имел своей целью, а тем более своею единственной целью, осуществление материального права государства на наказание, то законодатель и ограничивался бы тем, что наделял бы суд и его вспомогательные органы всеми полномочиями, нужными для энергичного осуществления репрессии. Этого не только не бывает, но этого и не может быть, ибо до тех пор, пока государственная власть, преследуя виновных, не знает никаких сдержек, пока обвиняемый не пользуется никакими формальными гарантиями, до тех пор вообще нет процесса, хотя государство и осуществляет свою карательную власть» 170. Сторонниками излагаемой идеи, по свидетельству П. И. Люблинского, были также Э. Ферри, F. Hélie и Романьози 171.
Читать дальше