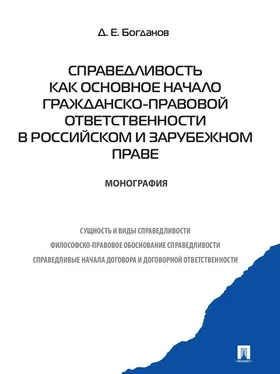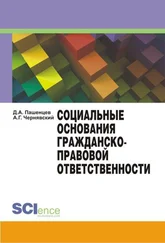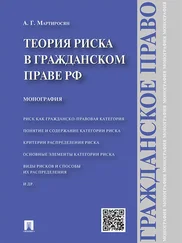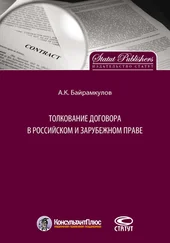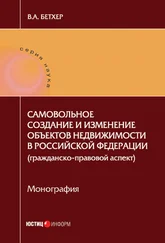Поэтому прогностические выводы Уго Маттеи и Роберто Пардолези, высказанные в 1991 г., что по истечении 15 лет экономико-правовой подход будет занимать в европейской правовой теории такое же важное место, как и в США 35, не оправдались.
Сторонники экономико-правового подхода в духе чикагской школы рассматривают экономическую эффективность не с объективных, а субъективных позиций. По сути, отрицается возможность существования объективной и справедливой стоимости материальных благ. Для оценки экономической эффективности применяется принцип Вильгельма Парето (Парето-эффективность). Согласно данному принципу, применение нормы права является экономически эффективной, например, в результате исполнения обязанностей по гражданско-правовому договору хотя бы одна сторона окажется в лучшем положении, чем была до заключения договора (по ее собственной оценке), а положение второй стороны (по ее собственной оценке) не ухудшится 36.
Согласно данному подходу, суд, по сути, лишается возможности объективно оценивать эквивалентность сделки, раз мерилом ценности является субъективное представление сторон по договору. Это разрыв не только с аристотелевско-томистической традицией, оперирующей категорией «справедливой цены» (justum pretum), но и, например, теорией трудовой стоимости. Это высшая форма экономического эмотивизма, приближающаяся к своеобразному солипсизму. Этой идеей можно оправдать любую пошлую спекуляцию и недобросовестную практику ссылками на некие субъективные оценки эффективности.
Представители экономико-правового подхода, по сути, дополнили наш гуманистический бестиарий новым экземпляром – homo economics, носителем идеи рационального выбора. Как отмечает Д.А. Архипов, согласно этой теории человек рассматривается исключительно в качестве рационального максимизатора собственных целей, т. е. в качестве лица, действующего исключительно в собственном интересе и выбирающего при этом наименее затратный способ действий во имя самореализации, завоевания авторитета и власти, повышения благосостояния 37.
В связи с этим Джеймс Гордли указывает, что некоторые экономисты в своем «рационализме» доходят до того, что признают ipso facto любой выбор субъекта правильным, по причине того, что он сам выбрал данную линию поведения. Названный автор приводит юмористический пример из своей практики, который позволяет поставить правильный диагноз радикальным сторонникам теории рационального выбора. Он задал вопрос семи экономистам и сторонникам экономико-правового подхода (один из них был нобелевским лауреатом) по гипотетической смоделированной ситуации, в которой человек с тонущей яхты радировал свои координаты береговой охране, и ему было известно, что до него доберутся на шестые сутки. Он перешел на спасательный плот с 6 банками пива (единственная жидкость на яхте), зная, что если будет выпивать по одной банке в день, то выживет. Однако он выпил в первый день 4 банки, на второй – 2, а на шестой был найден мертвым. Был ли данный выбор эффективным, шесть экономистов сказали да, а седьмой (нобелевский лауреат), что такое не могло произойти 38. Представляется, что для подобной суицидальной эффективности комментарии явно излишни.
Авторитетными представителями экономико-правового подхода делаются и радикальные выводы в отношении справедливости. Так, Л. Кэплоу и С. Шэйвел полностью отрицают нормативное значение справедливости, поскольку право должно иметь своей исключительной целью увеличение благосостояния. Единственной целью правовой политики должна быть эффективность 39.
Названные авторы формулируют лукавые выводы, например, о том, что политика, основанная на справедливости, в итоге поставит всех членов общества в худшее положение. Таким образом, все должно быть принесено в жертву идолу Парето-эффективности. Их лукавство заключается и в том, что они, как верно указывает Майкл Дорф, исключают дистрибутивный (распределительный) элемент из сферы справедливости и переносят его в сферу вэлферизма 40. Это неверно, так как со времени «Никомаховой этики» Аристотеля справедливость не рассматривается в отрыве от дистрибутивной составляющей 41.
В связи с этим представляют интерес выводы Д.А. Архипова, осуществившего экономико-правовое исследование вопросов распределения договорных рисков, однако не ставшего апологетом радикального экономизма, поскольку он указал, что «человек – внутренне справедливое существо, ориентированное на взаимность и кооперацию, способное жертвовать возможностью обогащения, улучшения своего материального положения во имя справедливости… и было бы неправильным выбирать экономически эффективные решения, невзирая на человеческую природу, изначально склонную к справедливости. Внутренняя неудовлетворенность людей, вызванная пусть и Парето-эффективным, но несправедливым правовым решением, способна перевесить его очевидные экономические выгоды. Иными словами, справедливость должна сохранять свою роль критерия оценки конкурирующих правовых решений» 42.
Читать дальше