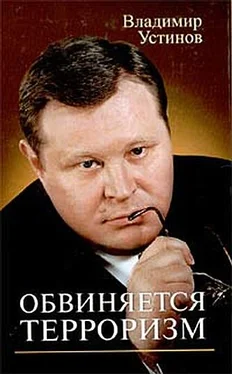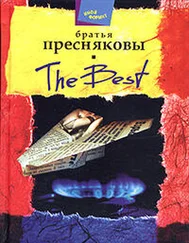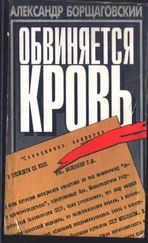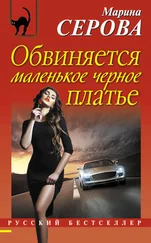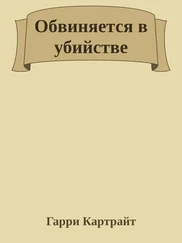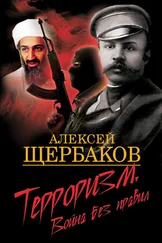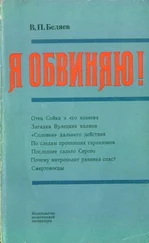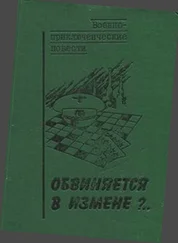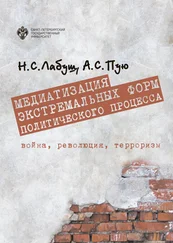Только основанная на законе — на нормах внутреннего законодательства и на общепризнанных принципах и нормах международного права, действующих международных договорах, — контртеррористическая деятельность государств может рассматриваться в качестве адекватного ответа угрозе терроризма. И это — истина.
Проблему правомерности действий государства в ситуации ответа на терроризм обычно связывают с той повышенной степенью общественной опасности, которую заключает в себе терроризм как для отдельных лиц, чьи интересы затрагивает конкретный террористический акт, так и для общества в целом. По мнению Генеральной Ассамблеи ООН, «акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое пренебрежение целями и принципами Организации Объединенных Наций, что может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные отношения между государствами, препятствовать международному сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных свобод и демократических основ общества».
Нарушением террористами основополагающего права — права на жизнь — часто оправдываются самые жесткие и недемократичные ответные или превентивные меры. Именно для ограничения произвола со стороны государства и поддержания действительного баланса прав граждан и суверенных прав государств международное сообщество выработало целый комплекс международно-правовых норм, регулирующих стандарты в области поведения как государств, так и, в некоторых случаях, групп населения, выступающих против властей соответствующих государств.
Напомню слова Бенджамина Франклина: «Те, кто уступил неотъемлемые свободы для того, чтобы получить немного временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности». Это и противоречие, и не противоречие ранее сказанному. Еще с древних времен признавались право и обязанность государств использовать все возможные средства для защиты общества от преступных посягательств.
Пережившая эпоху маккартизма и скандал Уотергейта Америка более чем когда-либо настороженно относилась к любым ограничениям свобод граждан даже перед лицом угрозы терроризма. Эти ограничения считались более губительными для демократии, чем последствия терроризма. И это на фоне и по причине того, что долгое время США полагали маловероятной интенсивную атаку против себя даже со стороны иностранных террористов, и тем более — американских.
«Террористические атаки против Америки, — писал уже известный нам К. Дж. Робертсон, — пугают нечто большим, чем трагическая потеря отдельных жизней. Некоторые террористы надеются спровоцировать ответ, который подрывает нашу конституционную систему правления. Таким образом, лидеры США должны найти подходящий баланс, принять контртеррористическую политику и эффективную и в то же время отвечающую демократическим традициям, которые составляют основу силы и престижа Америки».
Ряд российских ученых, правозащитников и журналистов с начала чеченских кампаний били тревогу о том, что, мол, реакция федеральных властей на события в Чечне — худший из ударов по молодой российской демократии. Такие опасения отчасти были оправданны в связи с законодательной неурегулированностью вопроса о порядке, пределах и сроках ограничения свобод в условиях борьбы с терроризмом. Как известно, Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» был принят лишь в 1998 году, Закон РФ «О чрезвычайном положении» (1991) был недостаточным для регулирования ситуации, новый — Федеральный закон «О чрезвычайном положении» принят лишь 30 мая 2001 года, законопроект о военном положении пролеживал в Государственной Думе. Между тем, согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), именно официально зафиксированная ситуация военного или чрезвычайного положения могла служить оправданием приостановления большинства соответствующих прав и свобод.
Статья 15 ЕКПЧ «Отступления от обязательств во время войны или иного чрезвычайного положения» гласит: «Во время войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при том, что такие меры не являются несовместимыми с ее другими обязательствами по международному праву».
Ирландская Республика дважды воспользовалась своим правом отступления в связи с применением Акта о чрезвычайных полномочиях. Но никаких оговорок не допускается только по Протоколу № 6, связанному с отменой смертной казни.
Читать дальше