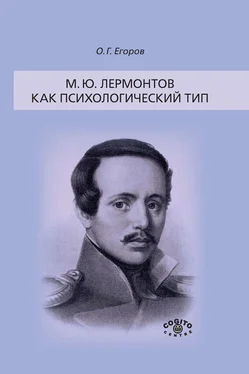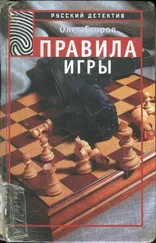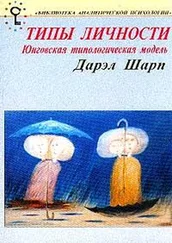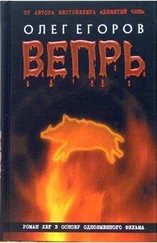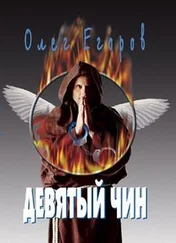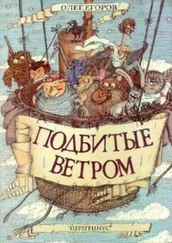Ответом Лермонтова на социальный вызов стала его неадекватная ценностям общества установка делать «шум и столпотворение», а составным ее элементом – метание острот. Зная цену многим завсегдатаям «большого света», он принялся систематически девальвировать избранных этого круга, к которым, помимо личной антипатии, он питал неприязнь как к носителям коллективных ценностей. Эту позицию к тому же пронизывало стремление к лидерству, порождающее в таком сочетании специфический психокомплекс. «Некоторые индивидуумы используют свой бойкий ум для того, чтобы возвысить себя над остальным человечеством, – писал о подобных явлениях А. Адлер, – и протравливают характеры других концентрированной кислотой своей критики. Неудивительно, что у подобных индивидуумов порой вырабатывается отличная техника критики, так как у них накапливается обширный опыт в этой критике. Среди них можно встретить величайших острословов, чья быстрота реакции и находчивость достойны удивления. Острый язык не менее опасен, чем любое другое оружие ‹…›
Резкая неконструктивная гиперкритическая манера поведения таких индивидов является выражением достаточно распространенной черты характера. Мы назвали ее комплексом порицания. Этот комплекс ясно демонстрирует то, что основной мишенью тщеславия человека является значимость и достоинство других людей». [481]
Психологический механизм остроты сводится к обходу неприемлемой для личности и общества прямой критики и ее подмене безобидными и легализованными в форме комики суждениями. Прямое слово лермонтовской критики, громко прозвучавшее в дополнительных строках к «Смерти поэта», своими последствиями для поэта научило его обходить моральные и социальные запреты при помощи природного дара к комическому вышучиванию и карикатуре. Иногда он помогал выстраивать психологическую защиту («Мы смехом брань их уничтожим»), но чаще служил средством нападения в форме приемлемой для общества критики («буйным смехом заглушил слова глупцов и дерзко их казнил»). «Острота позволяет нам использовать в нашем враге все то смешное, которое мы не смеем отметить вслух или сознательно; таким образом, острота обходит ограничения ‹… › Высокопоставленность ‹…› особы делает ‹…› невозможным выражение своих суждений в этой форме. Поэтому ‹…› прибегают к помощи остроумия, обеспечивающего ‹…› у слушателя успех, которого ‹…› никогда не имели бы в неостроумной форме, несмотря на то что содержание их, может быть, соответствует истине». [482]
Тенденциозная острота как социально приемлемая форма критики не входит в противоречие со своей мишенью в том случае, когда ее «дозировка» не превышает некоторого критического предела. В противном случае, как показывает опыт Лермонтова, критика расценивается ее объектом как неприемлемая, оскорбительная, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. При этом игровая природа остроты может ввести в заблуждение самого острослова и на какое-то время (критическое для нежелательного оборота дела) отключить психический механизм, который отвечает за чувство меры и самосохранения личности. Этот наихудший вариант развития событий и был разыгран в истории последней дуэли Лермонтов при главенствующей роли в ней остроты.
Последняя дуэль. Ее составляющие: игра, острота. Броня характера и психологическая защита. Нарушение чувства реальности. Карнавализация накануне дуэли. Последний залп в психологическом поединке
Последняя дуэль Лермонтова окружена таким количеством мифов и домыслов, что часто в совершенно очевидных фактах биографы просматривают закономерности и напрашивающиеся сами собой связи. Среди наиболее авторитетных гипотез XX–начала XXI столетия заслуживают внимания две – социологическая и статистическая. Они представляют собой своеобразные категориальные оппозиции: детерминированность – случайность. Обе гипотезы опираются на обширную источниковедческую базу и хорошо аргументированы. Мы не будем входить в подробный анализ каждой из них, а лишь отметим недостаток, свойственный им обеим.
На наш взгляд, исследователями не учитывался психологический фактор, который и сыграл решающую роль в финальном эпизоде дуэли Лермонтова с Мартыновым. Что касается дуэли как последнего звена в цепи жизненных событий Лермонтова, то она была подготовлена всем ходом его душевной жизни. Таким образом, наша гипотеза тоже относится к ряду детерминистских, но с акцентом на психологической составляющей. Но прежде мы должны сделать оговорку принципиального значения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу