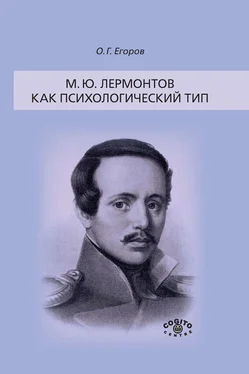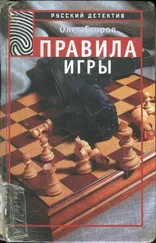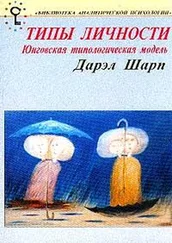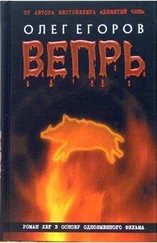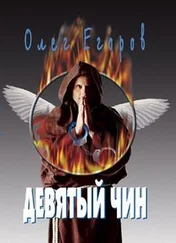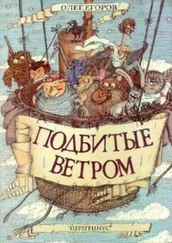«С философской точки зрения символ смерти ‹…› в предельно мыслимом виде представляет некоторые другие предметы, и вещи, и события и поэтому представляется удобным способом рассуждения о них. ‹…› В символе смерти зашифровано и упаковано в предельном виде свойство времени. Наше движение во времени дискретно ‹…› и на свойство этой дискретности указывает смерть, потому что смерть в предельном виде выражает это: зная, что мы умрем, мы не знаем, когда это случится». [274]
Особое внимание обращает на себя одна деталь из всего набора «могильного» хозяйства в стихах Лермонтова – череп. Этот архетипический образ, в соответствии с символикой сновидений, является вместилищем ума, интеллекта. Череп – это mortification (умерщвление) женского типа prima material [275], которая представляет собой сущее в возможности, источник индивидуальности (по Аристотелю). Появление в сновидении, то есть в бессознательном человека данного образа связано со своеобразием позиции его сознания. «‹…› Подавляющее большинство сновидений имеет компенсаторную природу . Чтобы поддержать душевное равновесие, они соответственно усиливают другую сторону». [276]
В эти годы сознание Лермонтова работало над выработкой проекта жизненного плана. Его усилия были сконцентрированы почти исключительно в области мысли. Подобная работа всегда вызывает участие вспомогательной психической функции индивида, как правило, бессознательной. Поэтому в бессознательном, получившем образное воплощение в произведениях данной группы, мертвый череп символизирует обесценивание разума, мысли, которые в его сознательной установке приобрели непомерно большое значение. Во сне лирическому герою Лермонтова представилось, чтó же в конце концов ждет разум, каков итог его напряженной работы. Инстинктивно Лермонтов постиг тщету разума при его безраздельном господстве в душевной жизни и таким образом ослабил его властные притязания. «Само по себе бессознательное, – объясняет подобные душевные коллизии К. Г. Юнг, – является нейтральным, и его нормальная функция – это компенсация позиции сознания. В бессознательном противоположности мирно дремлют бок о бок; их растаскивает в разные стороны только деятельность осознающего разума, и чем более однобокой и ограниченной является точка зрения сознания, тем более болезненной и опасной будет реакция бессознательного». [277]
Еще один продуктивный мотив-символ раннего творчества Лермонтова – луна . Закономерно, что все восходящие к теме смерти и «кладбищенской» тематике сюжеты имеют место при лунном свете, в сумерках ночи. Но луна сопровождает лирического героя Лермонтова и в гораздо более широком диапазоне жизненных ситуаций, что позволило Д. С. Мережковскому сделать столь категорический вывод: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии». [278]С психологической точки зрения такое утверждение совершенно безосновательно. «Луна – это прежде всего отражение женского аспекта мужского бессознательно, но она также является принципом женской психе, в том смысле, что Солнце является принципом психе мужской». [279]Психология Луны не отличается простотой. В текстах Лермонтова мысли о луне является порождением мужской психологии, но они соотносятся с женским началом или образом женщины:
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них (гор. – О. Е.) луна,
Царица лучших дум певца ‹…› [280];
Ты помнишь? – серебристая луна ‹…›
Блуждала, на тебя кидая луч
И я гордилась тем, что наконец
Соперница моя небес жилец [281]
Эпоха, к которой относится большинство солярных символов поэзии Лермонтова, была периодом переживания им процесса индивиндуации – психологического самоосуществления личности. Данный факт подтверждается данными аналитической психологии: «Луна с ее антитетической природой в определенном смысле является прототипом индивидуации, прообразом самости ‹…›» [282]
У Лермонтова символ Луны тесно переплетается с другим архетипом бессознательно – образом бегущего коня. Это животное в жизни Лермонтова играло важную роль, и не только на символическом уровне, а в чисто бытовом плане. Мемуаристы неоднократно отмечали страсть Лермонтова к опасному гарцеванию и бешеным скачкам: «Верхом ездил часто, в особенности любил скакать во весь карьер. Джигитуя перед домом Верзилиных (незадолго до дуэли. – О. Е.), он до того задергивал своего черкеса, что тот буквально ходил на задних ногах. Барышни приходили в ужас, и было от чего, конь мог ринуться назад и придавить всадника», – вспоминал В. И. Чиляев. [283]Подполковник Гвардейского генерального штаба Л. В. Россильон отмечал: «Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! – ибо кто же кидался на завалы верхом?!» [284]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу