Напряженные отношения между «арийцами» и «тюрками» еще в 1991 г. нашли отражение в учебнике для 10 – 11-го классов, где выражалось возмущение по поводу несправедливого национально-территориального размежевания, произведенного в 1920-х гг. Автор учебника заявлял, что в результате лишь менее половины таджиков оказались в границах Таджикистана, и обвинял в этом пантюркистов. Такие сентенции сохранились и в учебниках, выходивших в 2001–2006 гг. (Blakkisrud, Nozimova 2010: 180). Иными словами, школьные учебники оставляют учащихся в убеждении, что в течение веков территория таджиков («арийцев») постоянно сокращалась, а их культура приходила в упадок, и главными виновниками этого были «варвары-тюрки».
Особая причина для культивации «арийской идентичности» была у филолога Шомата Хайдарова, пользующегося высоким авторитетом у таджикской диаспоры Пермского края России. После распада СССР и перехода к рыночной экономике этот ученый был вынужден оставить свою работу в Институте языка и литературы Академии наук Таджикистана и заняться торговлей фруктами. Однако и в этих условиях он находил время для научных исследований и написал книгу о пребывании «древних ариев» в Прикамье и их контактах с местными племенами. Книга вовсе не случайно вышла в 2006 г. – ведь она была приурочена к объявленному в Таджикистане Году арийской цивилизации. Поэтому в ней превозносились «древние арии», чьими естественными наследниками объявлялись современные таджики. Стремясь сделать эту тематику близкой Перми, автор делал Урал местом, где могла складываться индоевропейская («арийская») общность; он упорно искал свидетельства того, что Прикамье издавна испытывало влияние иранской цивилизации; он смело подхватывал идею местного поэта о якобы родственных связях древних уральцев и индоевропейцев; наконец, он детально останавливался на оживленных торговых контактах между Средней Азией и Прикамьем в эпоху раннего железного века и раннего Средневековья. Все это якобы говорило о древней близости народов Прикамья и «иранского мира» и их давних контактах. Примечательно, что книгу об «арийской цивилизации» автор заканчивал описанием современной таджикской общины в пермском городе Кунгуре, где, по его словам, она хорошо приспособилась к местной обстановке и вносит существенный вклад как в экономику, так и в общественную и культурную жизнь. Тем самым автор пытался показать, что нынешнее пребывание таджиков в Пермском крае вовсе не является случайным, а продолжает традицию, основы которой якобы были заложены еще в первобытности (Хайдаров, Одегов 2006) 392.
В свою очередь другой таджикский ученый, живущий в Москве и ощущающий местную ксенофобию, идет еще дальше и обращается к древней «общности славян и иранцев, русских и таджиков» (Шукуров 2005), как будто это способно спасти таджиков-гастарбайтеров от дискриминации и нападений скинхедов 393.
Похожий смысл арийская идея имеет в работах российского корейца, философа Г. А. Югая. Его работы преследуют две цели: с одной стороны, полностью интегрировать живущих в России корейцев в российское общество, а с другой – обеспечить им сохранение своей идентичности вместе с языком и культурными особенностями. Арийская идея давала ему возможность изобразить корейцев близкими родственниками славян, чьи общие предки, арийцы, якобы происходили из Центральной Азии 394. Идеализируя легендарных арийцев и наделяя их самыми завидными качествами, он сознательно шел на это ради консолидации общества и смягчения этнонациональных трений. При этом он отмежевывался от нацистской идеи расового превосходства и говорил о том, что каждый народ должен стремиться к моральному идеалу. Местами Югай говорил только о евразийских народах как потомках древних индоевропейцев, но кое-где он заявлял, что все народы мира должны осознать свое «величие как арийцев по происхождению», ибо происходят от «Пятой Коренной Расы» (это тут же обнаруживает источник его вдохновения – теософию Е. Блаватской 395).
Такие противоречия нередко встречаются в его книгах, в которых идеологическая заданность перевешивает научную скрупулезность. И не случайно своих единомышленников он находил среди литераторов-мифотворцев и создателей новых религиозных учений. Существенно, что основы равноправия и дружбы он связывал, во-первых, с единством «арийской суперэтнической общности», а во-вторых, с «единым арийским происхождением народов Евразии», что моментально делает идею этногенеза инструментом современной политики. Но при этом речь идет о символической политике, и не случайно Югай уделял большое внимание архетипам и политическим символам (Югай 2003а; 2004). Действительно, «арийство» для него не ограничивалось историей, а представляло современную актуальную проблему. Исходя из цивилизационного подхода, он объявлял идеалом арийское общество и наделял арийцев идеальными человеческими качествами – якобы греховность была им чужда. В арийстве он обнаруживал «подлинный гуманизм» и связывал арийскую цивилизацию с либерализмом и демократией. Он отождествлял арийскую цивилизацию с евразийской, а ее центр обнаруживал в Казахстане (Югай 2003б: 17–20). Вместе с тем противопоставление «арийства» и «семитизма» в его конструкции сохранялось, подрывая его призывы к «дружбе».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
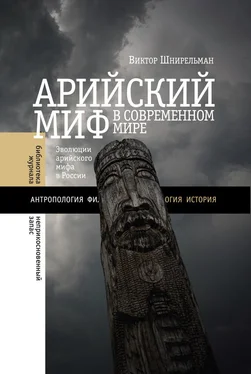
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)








